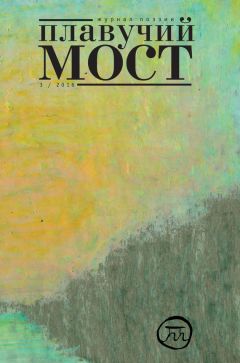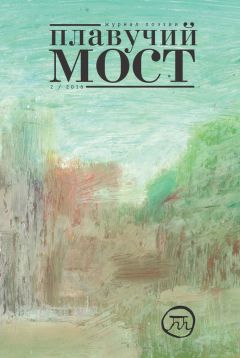С ранней редакцией полной версии перевода поэмы Четыре квартета дотошный читатель может ознакомиться в Синодальной б-ке Моск. Патриархии (Андреевский монастырь): «Выбор», 1988, № б, с. 120–149.
Примечание:
Сильвестров, Дмитрий Владимирович, род. в 1937 г. в Воронеже. В 1941 г. эвакуировался на ст. Безымянка, под Куйбышевом (г. Самара). С 1947 г. жил в Малаховке, после 1961 г. – в Москве. С 2002 г. живет в Германии. Переводы: Осень Средневековья (с фрагментами из бургундской поэзии и немецких мистиков), Homo Îudens, Эразм, Культура Нидерландов вXVII в. и др. Й. Хёйзинги; Люди за дамбой Ф. Де Пиллесейна; Сын Пантеры П. Клааса; Рассказы из убежища Анны Франк; Благородство духа Роба Римена. Поэзия: В. М. Рогхеман, X. де Конинк, М. Ван хее, И. Йонкер, С. Вестдейк, Т. Мур, У. Уитмен, Дж. Мэнли Хопкинс, Т.-С. Элиот, Т. Дойблер, Фр. Верфель, М. Нейхофф и др.
Сильвия Плат
Стихотворения
Сильвия Плат (1932-1963) родилась в семье профессора биологии, Бостонского университета Отто Плата, рано потеряла отца, страдала биполярным аффективным расстройством. После окончания с отличием престижного колледжа Смит Плат была удостоена премии Фулбрайт для продолжения образования в Кембридже. Покончила жизнь самоубийством по крайней мере с третьей попытки 11 февраля 1963 в Лондоне. В эту подборку вошли более ранние стихи Плат, предшествующие посмертно изданной книге «Ариэль», удостоенной Пулитцеровской премии. Несомненно, что в стихотворениях Сильвии Плат очень сильны феминистические мотивы, что было отмечено многими критиками, однако удивительная образность, неимоверная экспрессия, насыщенность образов и исповедальность в сочетании с приемом маски, успешно применяемым Плат, превращает эти стихи в произведения искусства.
Перевод с английского:
Ян ПробштейнЭтот лес сжигает темный
Фимиам. Бледный мох,
В шарфе по локоть, роняет
Капли бород с древних
Костей огромных дерев.
Синий туман плывет
Над озером, от кишащей рыбы густым.
Улитки вьют завитки
Бараньих рогов
На кромке матовых вод.
На прогалинах год
На исходе бьет
Молотками по редким
Разнообразным металлам.
Старые корни хвоща
Оловянно вьются из
Черного зеркала вод,
И пока прозрачный воздух
Сыплет из песочных часов
Золотые крупицы,
Огни спасательных буйков
Бросают яркие кольца
Один за одним
На стволы сосен.
1959
Дерево мечты, дерево Полли:
чаща палок,
каждый пятнистый сук
заканчивается тонким листком,
не похожим
на других
либо призрачным цветком,
плоским, как бумага, и
цвета испарений,
как мороза дыхание,
филиграннее
веера из шелка
которым китайские дамы
месят воздух, как
малиновки яйцо. Сребро –
волосое семя молочая
на насест прилетая,
висит, хрупкое, как ореол
вокруг пламени свечного,
как нимб огня
болотного или
касанье тучки-летучки
своего канделябра чудного.
В бледном свете
легких венчиков одуванчиков,
колес белых маргариток
и анютиных глазок
тигроликих, оно светится. О нет,
не семейное древо,
а дерево Полли это, однако и
не райское древо, хотя
связало пушинку кварца узами
с перышком, с розами.
Оно проросло из подушки ее,
цельное, как паутина,
шершавое, как рука,
древо мечты. У древа Полины –
дуга Валентина
из слезно-жемчужных
кровоточащих сердец
на рукаве, а венец –
шпорника звезда голубая.
1959
Последние романтики эти свечки:
Огней перевернутые сердечки
С восковыми перстами белизны прозрачно-молочной
В свечении собственных нимбов, как святые мощи.
Трогательно, что им безразлично
Семейство выдающихся предметов,
Просто ныряют на глазное дно
В полость теней, в камыши ресниц,
Хозяйке которых, отнюдь не красавице, уже за тридцать,
Куда объективнее – дневной свет,
Он воздаст каждому по заслугам.
Им давно пора бы исчезнуть, как полет на воздушном шаре
или волшебный фонарь.
Время личных мнений прошло.
Когда их зажигаю, щиплет в носу.
Их бледная условная желтизна
Тащит за собой ложные сантименты эдвардианской эпохи,
И я вспоминаю свою бабушку из Вены. Она
Школьницей дарила Францу-Иосифу розы.
Детишки в белом. Пропотели и прослезились горожане.
Мой дед в Тироле мыл полы, воображая,
Как он парит метрдотелем в Америке
В священной тиши ресторана
Над хрустом салфеток и ведерками льда.
Сладкие, как груши, кружочки света,
Добры к инвалидам и сентиментальным дамам,
Смягчают свет голой луны.
Как монашки, пылают небесным огнем, не вступая в брак.
Качаю младенца, который едва открывает глаза.
Через двадцать летя тоже в прошлое кану,
Как эти призраки, которые вертит сквозняк.
Скатываются их мутные жемчужины слез.
Что я могу сказать этому младенцу,
Едва пробудившемуся к жизни?
Мягкий свет обнимает ее, как шаль,
Тени склонились над ней, как на крестинах гости.
Вдова. Само себя сжигает слово –
И тело, как печатный лист в огне,
Трепещет немо, тягой возносясь
Над жгучей топографией багровой,
Что сердца потушит единственный глаз.
Вдова. И тенью эха мертвый слог
Панель и нишу обнажил в стене,
За нею потайной зияет ход:
Воспоминаний затхлых воздух сперт
И в никуда винт лестницы ведет…
Вдова. Сидит паук жестокий, он –
В центре ее безлюбых веретен.
Смерть на одежде, шляпке, воротнике.
Лицо больное мужа, как луна,
Как моль, что рада бы убить она
Вдругорядь, обретая рядом снова –
Вложить его бумажный образ в сердце,
Как письма от него, чтоб обогреться,
Чтобы согрели, как живая кожа.
Сейчас она сама – холодный лист.
Вдова! Простор! Свободное владенье!
Сквозняк в Господнем гласе ледяной
Сулит лишь тяжесть звезд, простор
Пустот бессмертных между звезд,
Но в небе не поет ничто стрелой.
Вдова – склонясь, деревья сострадают,
Лишь одинокой скорби дерева,
Как тени средь зеленых тех пейзажей –
Или как черные зияют дыры даже.
Сама как тень, подобье их – вдова;
Рука в руке, внутри же – ничего.
Бесплотная душа пройдет сквозь душу
И не заметит в воздухе кристальном
Другую душу, хрупкую, как дым,
Не ведая, что позади, что впереди.
Она страшится, что он будет биться
В окно, как голубь, в омертвелость чувств,
Как ангел голубой Марии, впредь,
Слеп ко всему вне комнаты бездушной,
Глядит он внутрь и будет век смотреть.
16 мая 1961
Звезды падают, плотные, как камни, в ветвистый
Дозор деревьев, чьи силуэты темнее
Небесной тьмы, ибо небо беззвездно.
Лес – колодец. Падают звезды безмолвно.
С виду большие, но падают, и не видно пустот.
И на месте их паденья не полыхают огни,
Нет никаких сигналов тревоги или страданий.
Их поглощают мгновенно сосны.
Там, где я живу, лишь редкие звезды
Доживают до сумерек, и то после некоторых усилий.
И они тусклы, за время долгого путешествия потускнели.
А те, что поменьше и позастенчивей, никуда не стремятся,
Оставаясь на месте, сидят вдалеке в собственной пыли.
Они сироты. Я их не вижу. Оно потерялись где-то.
Но сегодня ночью они без проблем эту реку открыли.
Они отскреблись, уверились в себе, как великие планеты.
Мне знакома только Большая Медведица.
Скучаю по Ориону и Колеснице Кассиопеи.
Может, они скромно свисают с утыканного шипами небосвода,
Как для ребенка слишком простая задачка?
Кажется, в бесконечном количестве дело,
Либо есть они, но столь ярки их обличья,
Что я не заметила их, ибо слишком усердно смотрела.
Может, неподходящее для них время года.
А что если здесь – не другое небо, а только
Дело в моих глазах, которые изостряют сами себя?
Такая роскошь звезд меня бы сбила с толку.
Немногие, к которым привыкла, просты и прочны;
Думаю, о таком разукрашенном заднике, не мечтают они
Либо о мягкости юга, о большой компании.
Для этого они слишком одиноки, пуритане,
Когда одна из них падает, остается провал,
Чувство отсутствия на ее старом сверкающем месте и
Там, где лежу сейчас, вернувшись к темной звезде своей,
Вижу в уме эти созвездия,
Не согретые сладким воздухом этого персикового сада.
Здесь все слишком просто; эти звезды слишком гостеприимны.
На этой горе с видом на освещенные замки, где каждый
Колокольчик звонит по своей корове. Я закрываю глаза
И, как вести из дома, пью короткой ночи прохладу.