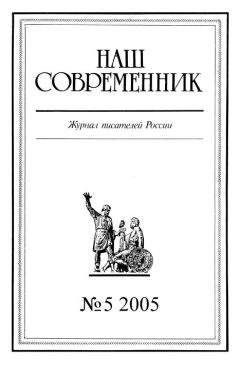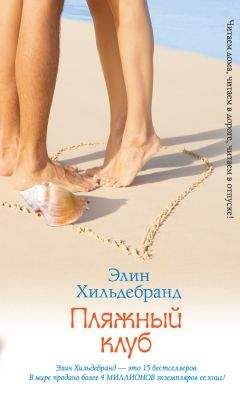«…Радуйся, врагов устрашение; радуйся, от нашествия иноплеменных избавление. Радуйся, воинов крепосте; радуйся, в дни брани забрало и ограждение. Радуйся, в дни мира живописный саде, увеселяющий сердца верных; радуйся, оружие, его же трепещут демони…».
…Лишь через годы доведется мне узнать, что пожилая псковская крестьянка читала не просто молитву, обращенную к Владычице, — она произносила акафист именно в честь иконы Ее Казанской… И вот однажды, когда мы все вместе, и хозяева избы, и постояльцы, сидели за обеденным столом, к бабе Наде по какому-то делу зашел председатель сельсовета Иван Федорович, невысокий широкоплечий мужик с огромными, лопатистыми ручищами. Вошел, поздоровался со всеми и, глянув в «красный угол», перекрестился. «Федорыч, — с удивлением спрашивает его мой отец, — вроде бы ты прежде в богомольстве замечен не был?». Гость отвечает: «Верно, крестного знаменья давно не творил… Но на эту иконку не перекреститься — вот уж точно грех! Она меня от гибели спасла! Да и не меня одного…». И начинают они вместе, баба Надя с Иваном Федоровичем, рассказывать моим родителям об этой иконе.
…Первые год-полтора оккупации немцы не лютовали, а потом, особенно после Сталинградской битвы, — началось. Боровичи не постигла судьба Красухи, псковской деревни, спаленной фашистами вместе с ее жителями, но многим боровичанам пришлось бежать в леса — из-за подозрений в помощи партизанам им грозили либо концлагерь, либо высылка в Германию на рабский труд. В одночасье ночью покинула свою избу (вскоре сожженную карателями) и баба Надя. В мешок наскоро положила кой-какой провиант, несколько теплых вещей — да сняла со стены икону с ликом Казанской Божией Матери. И через день была уже в глубине лесной глухомани, «за тремя озерами», в партизанском лагере. А в землянке своей поставила святой лик… И перед очередной боевой вылазкой подошел к ней пожилой партизан-односельчанин: «Дозволь, Надежда, перед иконкой твоей помолиться…». С той вылазки он единственный вернулся невредимым. И — пошло: сначала по одному, а потом и по нескольку человек стали народные мстители творить молитву Пресвятой Деве, уходя на задание…
«А что ж, ни комиссара, ни политрука у вас не было, никто не возбранял вам этой церковности?» — спросил мой отец Ивана Федоровича. «Так я и был от бригадного штаба политруком в нашем отряде назначенный! — ответил предсельсовета. — Но, сам знаешь, Николаич, разве против своего же народа можно тогда пойти было, да еще в таком деле?». Тут баба Надя вставила свое слово: «А забыли рази — о ту пору с Москвы послабление пошло по части веры-то. Ить тогда Сталин и дозволил опять церквы открывать. Как Порхов слободили от немцев-то, так церкву и открыли, а до войны закрытая была!».
Иван Федорович подтвердил: «Да, тогда антирелигиозные строгости послабее стали… Ну, я-то как коммунист единственным в отряде оставался, кто на эту иконку не крестился. А потом фрицы стали нас со всех сторон обкладывать. Мы раз передислоцировались — они нас нашли, второй раз место лагеря сменили — то же самое. Мы — на прорыв, раз, другой — не тут-то было: кольцом нас зажали, полегло ребят чуть не полотряда… Ну, тогда и я перед Казанской на колени встал: спаси, Заступница! И — прорвались, пробились, прямо на линию фронта, к частям нашим армейским вышли… Так что, говорю, грех мне был бы перед этой иконой крестным знаменьем себя не осенять…».
…Пройдет несколько лет, мои родители переедут учительствовать в другой край нашей области. А потом настанет такая пора, когда «наш дорогой Никита Сергеевич» рявкнет на партсъезде: что ж это мы, в коммунизм с попами должны войти? И снова станут закрывать храмы и превращать их то в склады, то в клубы. И мне (слава Богу, единственный раз в жизни, больше таких ужасов в моем родном краю не было тогда) доведется увидеть, как в Пскове взрывают красивейший, в стиле барокко XVIII века, храм — именно Казанской Божией Матери. И этот кошмар сольется с другим: у крестьян начнут отнимать личный скот, душить новыми налогами чуть не за каждую козу. И помнится отчаянный рев коров, согнанных с личных подворий на скотные дворы и подолгу остававшихся там недоенными и некормленными. Вот когда слова «крестьянство» и «христианство» вновь явили свою однокоренную суть…
…Но вот еще что окончательно убедило меня в том, что иконка Казанской в церковном музее — та самая «партизанская Заступница». Мне вспомнились слова Ивана Федоровича, сказанные им в том разговоре, в избе бабы Нади: «А знаешь, Николаич, она и впрямь какая-то чудодейная, Казанская эта, — не проявляется!». Отец не понял: «Как это — не проявляется?». Предсельсовета усмехнулся и пояснил: «Перед тем как наш отряд расформировали — кого по домам, кого в действующую армию, решили мы на память снимок сделать. Армейский фотограф нас и „чикнул“. А у Надежды-то в руках как раз наша Заступница была. Потом нам дали несколько фотографий: все стоим как живые, все хорошо вышли, а вместо лика Божией Матери — пустой квадратик. На всех фотках, веришь ли! Фотограф говорил: „Сам, дескать, не понимаю, как так получилось, несколько раз проявлял, а икону вашу будто кто-то то ли резинкой стирает, то ли смывает раствором каким. Не проявляется!“».
И я, и все мои московские гости запечатлели Казанскую своими фотоаппаратами, причем не только «мыльницами», но и «никонами», и другой могучей техникой. И освещение было почти идеальное. Но ни у одного из нас этот снимок не получился! Даже у знаменитого московского фоторепортера на снимке виден лишь раскрашенный самодельный оклад. Внутри же него — желтовато-белая пустота… Не желает партизанская Божия Матерь повторять свой лик на мертвой фотобумаге!
Но не это главное. Теперь, через десятилетия, эта икона, поистине народная, крестьянская, защищавшая своим Святым Покровом людей, вставших на битву против захватчиков-иноземцев, снова в храме. В воинском. И воины наших дней обращаются к Ней с молитвами о защите…
К 60-летию Великой Победы
Сергей Викулов
СЫН «ВДОВЬЕГО ПОЛКА»
Евгений Иванович Носов — в ту пору член редколлегии журнала «Наш современник», видя мои, главного редактора, затруднения с подбором литсотрудника для отдела поэзии, сказал мне:
— Возьми Лёшу Шитикова. Талантливый парень. Я занимаюсь с ним уже несколько лет и вижу: растет… А характер какой! Воспитанник «вдовьего полка», а это много значит. Он как раз в Подмосковье переехал, в Одинцово, чтобы поближе к литературному цеху быть…
Ну как было не прислушаться к совету такого человека, как Евгений Иванович Носов, — одного из самых надёжных соратников по журналу «Наш современник», искренне желавшему успехов ему в завоевании авторитета среди писателей и признания среди читателей. Взял. И не пожалел.
Алексей появился на свет 5 ноября 1939 года в семье рядового колхозника Федосея Никаноровича Шитикова. Едва научился произносить слово «мама», узнавать в лицо отца, грянула война. Великая война, какой на Земле ещё не бывало. А на великую войну и войско нужно было великое. Поэтому ни об отсрочке призыва, ни об альтернативной службе, чего добиваются нынешние призывники, для многодетного Федосея Шитикова в райвоенкомате не было даже и речи. Встал в строй вместе со всеми мужиками, осталась Дарья Лазаревна одна со звонкоголосой малышнёй, к которой вот-вот должен был присоединиться (и Федосей знал об этом) ещё один голосок…
Не боялись деревенские бабы рожать детей в те годы. А чего было бояться-то? Хлебушка, хоть и по трудодням, хватало; младших в яслях да в детских садах няньки пасли; старшие в школу бегали, в техникумах, в ФЗО учились; худо-бедно, а все одетые и обутые. Налаживалась жизнь, одним словом, а дальше сулилась стать и ещё лучше.
Но… война!
К лету 1943 года, когда Алёшке шёл четвёртый год, фронт докатился уже до курской земли и на какое-то время замер, затаился в виде Орловско-Курской дуги, оставив родное Алёшкино село Становое на другой, занятой немцами стороне.
Поразительна детская память — это замечено уже давно. Сделал такое открытие и молодой стихотворец: только взялся за перо — вот она, вся к его услугам, в мельчайших подробностях, в красках и звуках, память не только головы, но и сердца:
«Ничего, ничего не забыто, / Всё запомнил, хоть был мелюзгой: / Мать стирает бинты… аж корыто / Багровело от крови людской… / Как бинты мы потом относили / На заставленный койками двор, / Где солдаты, от ран обессилев, / Бились, бредили, звали сестёр, / Скрежетали зубами, срывали / С тел повязки, хрипели: „Воды-ы-ы!“»
Страшно было мальчишескими глазами смотреть на мучения умиравших от ран солдат…
А ещё страшнее — уже после изгнания немцев — идти «на дело» самому — воровать со скудной колхозной нивы колоски… «Заползёшь в пшеницу с тыла — / И стрижёшь, стрижёшь… / Мать кутью потом варила, / Унимая дрожь». Понимала, на мине мог подорваться её воробышек, как это случилось с дружком его — Петькой… Прошли годы и годы, а перед глазами всё стояла жуткая та картина: «Вёз он дровишки на санках — / Мины не смог миновать. / Как на кровавых останках / Билась тогда его мать!..» А ведь Петька звал и его в ту «ходку» за дровами.