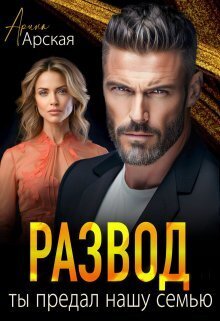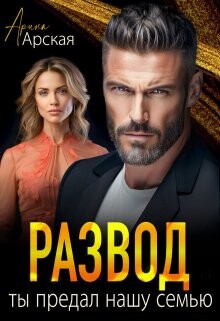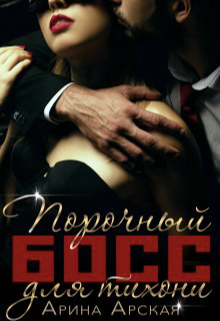то, чтобы мы тебя в четыре руки отстегали березовыми вениками? — шепчет с другой стороны Рома. — С нами можно без намеков, Анюта.
Соскакивает с лавки и вытаскивает из ведра два веника. Стряхивает воду, пристально глядя на меня:
— Ложись на животик, Анюта.
Тимур со смешком выхватывает из рук Ромы один веник и разминает плечи:
— Поддерживаю.
Голые, по груди и напряженным животам стекают капли пота к лобкам. Возбуждены, и веники в их руках добавляют какого-то соблазнительного безумия.
— На живот, — Тимур с угрозой бьет веником по ноге, и его впечатляющее и желанное достоинство покачивается, гипнотизируя меня темной головкой.
Я сглатываю и ложусь на живот, закусив губы.
— Поехали…
Рома поглаживает голени и бедра, Тимур — спину. Медленно, с чувством и расстановкой. Никаких поползновений к близости. Начинают похлопывать от пяток до лопаток, а после преходят к подстегивающим ударам. Боли и дискомфорта я не чувствую. Мне хорошо. Кровь разгоняется по всему телу, меня охватывает нега и слабость.
Вновь поглаживают и опять умело и интенсивно стегают. Я аж постанываю от удовольствия. Теперь прижимают веники к коже, захватывая ими горячий воздух. Мышцы плавятся, и я чувствую себя амебой.
— Давай на спинку, — Рома помогает мне повернуться, заглядывает в глаза и улыбается. — Хорошо?
Я лишь киваю в ответ и закрываю веки. Поглаживают, похлопывают и посмеиваются, когда я в очередной раз издаю тихий и одобрительный стон. Как мало надо для счастья и как бы я хотела этот момент растянуть в вечности.
— Садимся, — Тимур медленно и аккуратно усаживает меня.
Выдерживает минуту и помогает встать:
— Так, без резких движений.
Перед глазами все плывет, и глупо улыбаюсь. Выводят из парилки в душевую, и Рома обливает меня из черпака теплой водой, которая после горячего и влажного пара кажется холодной. Охаю и под смех Тимура прижимаюсь к нему. Взвизгиваю, когда Рома безжалостно плещет на спину воду, а затем смеюсь.
Через минуту сижу укутанная в полотенце за столом в предбаннике с чашкой травяного чая из термоса. Передо мной Рома и Тимур в халатах. Смотрят на меня, а я смущенно улыбаюсь. На душе легко и спокойно. Тимур копается в кармане халата и через секунду протягивает золотое кольцо с изумрудом:
— Будь нашей женой, Одинцова, — серьезно вглядывается в лицо.
— Давай жить неправильно, — Рома ласково улыбается.
Я теряю дар речи. Слезы выступают на глазах, и я молча протягиваю руку. К черту правила. Я жила все эти годы по правилам, а живой чувствую только сейчас.
— Надеюсь, подойдет, — Тимур неловкой улыбается и нанизывает кольцо на безымянный палец, — бабушкино.
И тут я не выдерживаю и всхлипываю. Кольцо будто ждало меня. Размер в размер. Прижимаю ладони к лицу и перевожу взгляд с Тимура на Рому. Слезы ручьем текут по щекам.
— Господи, — Рома откидывается назад и закрывает глаза, — я думал, откажет.
— Да кто же после бани отказывает? — Тимур смеется, но я слышу в его смехе облегчение.
Позади поскрипывает дверь и в предбанник заглядывает бабушка Маша:
— Ну? Согласилась.
— Согласилась, бабуль, — Тимур улыбается во все тридцать два ровных и белоснежных зуба.
Бабушка Маша смахивает слезы, подскакивает ко мне и хватает меня за руку. Смотрит на колечко с изумрудом, всхлипывает и поднимает глаза:
— Подошло!
Я киваю, и она тянет меня за собой:
— Пошли, милая, пошли!
Я едва успеваю сунуть ноги в кроссовки.
— Ой, а я так распереживалась! Даже рюмку настоечки махнула для смелости! Тимур бы натворил дел, если бы ты отказала, и Рома бы за ним. Со школы ведь любят.
У кустов крыжовника останавливается и обнимает меня. По голове гладит и приговаривает:
— Одного мужика сберечь тяжело, а тебе с двумя придется, но если любишь… — заглядывает в глаза. — Любишь?
— Люблю, — тихо отвечаю я, — но страшно.
— И с одним страшно, Аня, — бабушка Маша улыбается и обхватывает лицо. — В любви всегда страшно и ничего непонятно. Я своего схоронила и до сих непонятно за что полюбила. Вредный был, ужас.
Увлекает за собой по дорожке между кустов и аккуратных грядок к дому. Кутаюсь в полотенце и улыбаюсь. Мне рядом с бабушкой Машей уютно и безопасно, будто она моей крови и родства.
— Рубаху надень. Она на кровати лежит, — говорит бабушка Маша на пороге комнаты, — я тебе затем косы заплету.
И вот сижу я на стуле, в белой рубахе с милой вышивкой васильков по вороту, рукавам и краю подола. Бабушка Маша косы мне заплетает и тянет тихие напевы без слов. Вот уж точно мне сейчас ничего непонятно. Ко сну меня еще никто не готовил.
— Я до мужа любила одного паренька, — шепчет баба Маша и вздыхает, — да что уж. Я его и сейчас вспоминаю вечерами, но это не отменяло моей любви к мужу. Конечно, Даниле говорила, что только его одного и на всю жизнь, но ведь тот тоже в душу запал. И как я себя корила за светлые воспоминания, Аня. В подушку плакала, винила себя, корила. И как стыдно было перед Данилой. И никому об этом не говорила, даже подругам, только тебе… Да и тебе не стоило рассказывать. К чему тебе все это старческое нытье.
Я оглядываюсь. Печально улыбается:
— До глубокой старости пронесла этот секрет. Умер уже, наверное.
К горлу подкатывает ком, а глаза жгут слезы. Прожить столько лет в чувстве вины и не иметь возможности ни с кем об этом поговорить!
— Как его звали?
— Юра, — бабушка Маша с ласковой тоской улыбается. — Белобрысый, шутник, а глаза голубые-голубые, — касается моего лица, — любите, Аня, и не оглядывайтесь на других, а то будешь в старости, как я, девчонке молодой косы заплетать и плакаться о моем Тимурчике или Роме.
— Или сразу о двух, — тихо смеюсь и утираю теплые слезы с щек. — План был сбежать от двух.
— Любите вы, девки побегать, — бабушка Маша качает головой, — а мужикам дай только погонять красавиц. И это правильно. Нечего сразу их принимать.
Стоит ли бабушку Машу посвящать в подробности того, как у меня с Тимуром и Ромой все закрутилось?