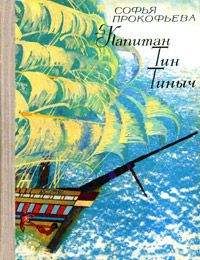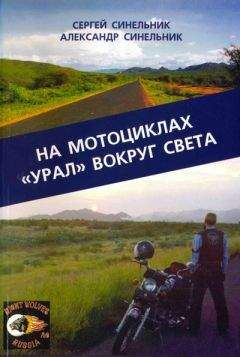О чем он думал? И можно ли будет когда-нибудь об этом узнать?
Костер быстро угасал. Подошел Михаил с термосом в руках.
— Ну что, мужики, чайку на сон грядущий — и спать?
— Мы еще постоим,— сказал я, взглянув на Галкина, который" все вертел в руках керамический осколок, и спросил:— С энеолитического поселения?
— Да,— кивнул Лев Леонидович,— интересная вещь получается. Фрагменты керамики, особенно венчики сосудов, которые мы обнаружили на поселении у Таучика, имеют довольно близкое сходство с так называемой воротничковой керамикой. То есть когда по горлышку сосуда идет утолщение,— пояснил он.— А воротничковая хорошо известна в других сопредельных районах Прикаспия, южного Приуралья, Оренбуржья и Нижнего Поволжья. Подобную керамику нашли и в песках около Красноводска на развеянном поселении близ поселка Кулимаяк. Если, конечно, мои предположения подтвердят раскопки будущих полевых сезонов,— Лев Леонидович наморщил лоб и замолчал.
Он, как всегда, осторожен в прогнозах, хотя на этот раз по нему было видно, что он уверен в своей правоте.
— Таким образом,— снова сосредоточенно заговорил Галкин,— намечается любопытная цепочка энеолитических стоянок от Южного Урала и Нижнего Поволжья до Красноводского залива. И объединяет их все — керамика, сходная по форме и орнаменту. Это так называемое предъямное время — время общности индоиранских племен, когда индоарии и ираноарии еще не разделились на две самостоятельные ветви. Видимо, цепочка этих поселений IV—III тысячелетия до нашей эры и свидетельствует о первой значительной миграции скотоводческих арийских племен в сторону Ирана из степей междуречья Волги и Урала задолго до II тысячелетия до нашей эры. Тем более что происходило это в тот период, когда Каспий находился в состоянии регрессии, то есть уровень моря упал ниже современного почти на восемь метров. Не сразу, конечно, регрессия продолжалась несколько столетий,— Галкин спрятал черепок в карман телогрейки и задумчиво произнес: — Вот и получается, что принятое в науке время миграции арийских племен еще требует серьезного уточнения.— Потом, спохватившись, добавил: — Все эти доводы надо еще подтверждать раскопками.
— Лев Леонидович,— не удержался я от вопроса,— но неужели до сих пор археологи в тех местах не работали?
— Увы, Западный Казахстан на археологических картах и сегодня пестрит «белыми пятнами»... Ну что, запишем пройденное?
Александр Глазунов, наш спец. корр. Шетпе —Сай-Утес-Бейнеу Окончание следует
По Ухани дорогой Пясецкого
С высоты ста двадцати метров смотровой площадки телебашни Янцзы кажется спокойной, хотя заметно, что вода поднялась. Несколько дней подряд дождь то принимается всерьез, то висит мелкой пылью, и тогда воздух можно потрогать рукой, как мокрое полотенце. В ущельях, где-нибудь у Чунцина, река превратилась в бурный поток, а здесь, на равнине, вырвавшись из Сычуаньской котловины и миновав Ичан, отдыхает, замедлив свой бег.
Виден отлично знаменитый Большой мост через Янцзы, двухъярусный, полуторакилометровый, построенный тридцать лет назад нашим инженером Константином Силиным. Он несокрушимо стоит на высоченных опорах. Телебашней, стоящей на Черепахе-горе и очень похожей на нашу Останкинскую, здесь гордятся не меньше, чем возведенной чуть раньше на противоположном берегу, на Змее-горе Башней Желтого Журавля, сооружением современным, но выстроенным под старину — многоярусной пагодой с высоко загибающимися кверху углами черепичных крыш.
Легенда рассказывает, что некогда сюда прилетел на желтом журавле даос-отшельник, остановившийся на отдых на безлюдной вершине Змеи-горы. Легенда жила, и около 1700 лет назад, в эпоху Троецарствия, на этом месте была построена башня. Впрочем, это скорее наблюдательная вышка, невысокая и невзрачная.
Впоследствии она не раз перестраивалась, пока в 1985 году не приобрела нынешний вид — пятидесятиметровая башня из гранита и мрамора, в пять ярусов, с золотистой глазурованной черепицей на крыше.
Черепаха-гора с телебашней устроилась в самом центре города, вернее, трех городов: старейшего Учана, скрывавшегося в дымке на противоположном берегу Янцзы, промышленного Ханьяна и делового Ханькоу, отделенного впадающей слева в Янцзы рекой Ханьшуй.
С высоты Ханьшуй кажется по сравнению с полноводной Янцзы если не ручейком, то речушкой, хотя у пристани стоят большие пароходы. Но все равно, ей далеко до Большой реки. У причала на Янцзы приютилось здание «колониального» стиля, где размещалась когда-то уханьская таможня. Над таможней башня с курантами, младшим братом лондонского Биг Бена. В 1858 году Ханькоу стал одним из первых открытых для иностранной торговли портов Китая. Примерно с 1861 года здесь стали создавать свои концессии Англия, Россия, Франция, Германия. И, как писали китайские хроники того времени, «вдоль набережных выросли ряды иностранных фирм, речную гладь бороздили заокеанские торговые суда, рынок наводнился иностранными товарами, и трехградье превратилось в мир спекулянтов и авантюристов».
Тогда же на пристань Ханькоу ступил наш наблюдательный соотечественник, оставивший о своем путешествии по Китаю поучительные заметки. Это был Павел Яковлевич Пясецкий, врач-натуралист и художник, член Императорского Русского Географического и других ученых обществ. «Глазам путешественника, подъезжающего в хорошую погоду на пароходе к Ханькоу,— писал он,— представляется следующая панорама: перед собой он видит обширную зеркальную гладь реки, уходящую в прозрачную, сливающуюся с небом даль; на правом берегу тянется длинный ряд зданий, стеснившийся в одну густую массу, возле которой на реке стоит как бы другой, плавучий город,— это множество разнообразных судов, а за ними возвышается оживленная набережная, усеянная рабочим людом — почти исключительно китайцами.
Из этой густой массы китайских построек, облепивших берег, взгляд тотчас выделяет ряд двухэтажных европейских домов, которые все до одного кажутся дворцами перед низенькими и, в общем, непредставительными постройками туземцев».
С тех пор, конечно, многое изменилось, но дома европейской постройки еще весьма заметны в Ханькоу, хотя живут в них — и давно — не европейцы. Сразу за зданием таможни, которого при Павле Яковлевиче еще не было (а то бы он его непременно отметил), идет теперь от набережной в глубь города шумная Цзяньханьлу — улица рек Цзян, то есть Янцзы и Ханьшуй.
Как и в давние времена, на Цзяньханьлу кипит деловая жизнь — то и дело подвозят к лавкам и магазинам товар, чаще велорикши, реже грузовички, а то и носильщик на бамбуковом коромысле тащит два огромных и тяжеленных тюка.
П.Я. Пясецкий и его рисунки (внизу), сделанные во время путешествия
На это обратил внимание и Пясецкий. Он писал: «Китайцы трудятся здесь целые дни, и целые дни с утра до вечера раздаются их крики, очень похожие на стоны, какими они всегда сопровождают работу при переноске тяжестей, вероятно, для того, чтобы идти равномерно в такт с товарищем, когда несут что-нибудь вдвоем, или с колебаниями своего гибкого коромысла».
Все так и осталось, только вот криков слышно меньше — они заглушаются громкой рок-музыкой, несущейся из открытых дверей частных магазинов, из мощных динамиков, выставленных у входа прямо на тротуаре. В музыке есть некоторый коммерческий расчет: остановится прохожий послушать, а там, глядишь, зайдет да и купит что-нибудь.
Полтораста лет назад Ханькоу жил в основном чанной торговлей, и наши соотечественники приложили к этому руку. Был тогда в Ханькоу русский вице-консул, господин Н. А. Иванов, встречавший Павла Яковлевича прямо на пароходе. Русская колония состояла человек из двадцати, большей частью молодых и холостых людей, проживающих в трех домах: у господ Иванова, Токмакова-Шевелева и Родионова. Занимались означенные люди, как выразился Пясецкий, «комиссионерским делом, то есть покупкою чая здесь, по заказам наших крупных чаеторговцев, и отправкою его в Россию». Тут нужно сделать, во избежание недоразумений, некоторые пояснения.
«Никаких... собственных чайных плантаций в Китае у русских, как и у других иностранцев, нет,— писал наш путешественник.— В них надо перестать верить, что бы ни гласили разные «привлекательные» надписи на обертках, в которых продается чай в розничной продаже: весь он покупается у китайцев и через китайцев, а здешние русские только служат посредниками между туземцами и коммерсантами, живущими в Россия». Ах, коммерция, коммерция!.. А мы-то думали и впрямь — с «собственных плантаций»...
Впрочем, доктора в то время не жаловали чай как напиток, считали его для желудка вредным и разрушительным. Как врач, Пясецкий решительно не рекомендовал пить чай ни в кирпичном, ни в каком виде. Не нравился ему ни лаоча, большой, или «обыкновенный», кирпич, идущий в Среднюю Азию, ни цзинчжуань, «столичный» кирпич, шедший, кроме Азии, в Восточную Сибирь (оба чая — зеленые), ни мичжуань, черный, байховый, которым наши чаеторговцы безрассудно наводняли ту же ни в чем не повинную Сибирь. В обличении бесполезного напитка поднимался Павел Яковлевич до больших высот. «Если даже мы допустим, как факт, не подлежащий сомнению, что теин, принимаемый в чайном настое, возбуждает умственные способности и помогает пищеварению, если допустить также, что наш народ очень нуждается в возбуждении умственных способностей и в содействии пищеварению посредством теина, то и тогда, говорю, громадное большинство потребителей чая, лишенное этого возбудителя ума и деятельности желудка, ничего не потеряет, потому что первое действие можно легко заменить другими, гораздо более действенными средствами, не говоря уже об «образовательном теине»; во втором же отношении, мне кажется, лучше человеку доставлять себе то, что может служить здоровой и питательной пищей, чем сначала портить себе желудок разною дрянью и потом поправлять свое расстроенное пищеварение. А как напиток, неужели наш сбитень, хороший квас и брага хуже плохого чая?!» Протестовал Павел Яковлевич против ежегодной траты на это баловство двадцати миллионов рублей звонкой монетой (!), предлагал «заменить китайский чай каким-нибудь домашним растением», но преодолеть сопротивления косной петербургской бюрократии не смог и в деле сохранения народного здоровья и здравомыслия в ту мрачную эпоху не преуспел...