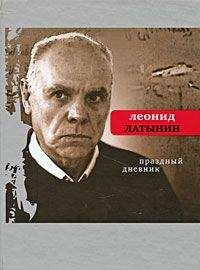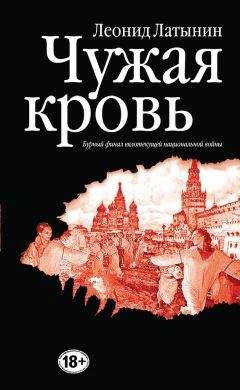по закону Имени, не слушая себя внутри, конечно, прямо сейчас перейти, незаметно, пока не до тебя…
Тридцать первое место.
…Для него в словах Стоящего-над-всеми жила, была видима, ощущалась уверенность в победе имен, в их избранности, в их профессиональном умении, в праве быть над Городом, повелевать им, ибо что могут вот эти рожи, тусклые, почти разноликие, по сравнению с его лицом, подобным лицу Образца… Другой Образец? На это существуют гримеры, и завтра у них будет вот это лицо, и завтра они снова… лучше потерять жизнь, чем имя… И пальцы впивались в подлокотник кресла, тяжелый, зеленой меди, почти топор-подлокотник.
Тридцать третье место…
В задоре и силе своей правоты ждали конца речи первые ряды.
III
Каждый слышал то, что хотел слышать.
В задоре и силе своей правоты сидящий вслед за первыми рядами зал ждал, замерев, слов Стоящего-над-всеми.
Уже волна мысли дохлестнула до их ушей, до их душ, уже каждому стало ясно, и даже тем, кто были в последних рядах: вот оно, не зря ушли их соседи, их друзья, сегодня заполнят ими первые ряды за Уход, за свои дома, за свои сады, за свой покой… Они ясно слышали, что старый закон разрушен. Новое лицо — вот мера новой жизни.
Все наново.
Все места в зале свободны.
Надо только сначала первые ряды скрутить в бараний рог, выжать, как вымытую собаку, руками, — это доступно им, вон их сколько, ряд за рядом весь зал, никогда не видевших Образец так близко, как первые, заполнивших весь зал. Всегда им нужно было в темноте, ломая руки и головы, драться за то, что первые имели без драки; и даже исковерканные, полусмятые, полузадушенные, но выжившие, они все равно оставались для имен ничем и никем, и по-прежнему первые ряды не видели их и делили между собой лучшее, что было в Городе. Вот он, час расплаты, вот она, возможность в одну минуту — без труда, без операций, а значит, без боли, одним усилием — получить то, что принадлежит им.
Слава Великому Гримеру, что открыл им Стоящего-над-всеми.
Весело блестели их глаза. Сто тридцать второй нащупал ногой камень плиты — шатается — и раскачивал его. Хороший материал камень, дождя не боится, а для драки — лучше не придумаешь. Сотая спрятала руку на груди, у нее был свинцовый амулет, и пальцы ее потихоньку стали перетирать льняную нить, накоторую амулет был подвешен. Амулет не худшее из оружий, если он тяжел.
Сотый с жадностью думал, что он как следует не принимал участия в движении, разве что один раз, и что ему вряд ли что-то достанется в этом зале, зато Сотая, — и он погладил ее локоть, который был на уровне его губ… Сотая перетирала льняную нить. Она только чуть повела локтем, и губы Сотого разбились о его зубы, и кровь побежала по его подбородку. «Да-да, справедливо, — подумал Сотый, — она, бедняжка, так страдала, ведь она так любила меня, а что может быть невыносимей нравственных мук», — и кровь для него была успокоением и в какой-то степени искупала его пассивность в движении, и он своими разбитыми губами поцеловал ее локоть. Сотая даже не вытерла кровь — было некогда.
Ах, как был прав Стоящий-над-всеми.
Все можно, если это нужно тебе.
Каждый имеет право быть самим собой и занимать место, которое, по его представлению, предназначено ему. И никто лучше, вот, например, тебя, слышалось каждому, не знает, чего ты заслуживаешь…
Да, сладкая музыка вместе с кровью крутилась в человеческом теле, и если бы в нее опустить плывущий огонек, который виден сквозь тело, то именно эти слова были бы выписаны им в своем движении: вот она, истина.
Каждый прав.
Если он имеет право.
Каждый имеет меньше, чем заслуживает.
Вот оно, движение, и каждый прав — его результат.
Для них новым было то, что время от времени устаревало. Старые слова были новыми в сути — внутри, в смысле, а не снаружи в звучании и существовании. И это в радостном возбуждении принимал зал.
Пришло время, когда стало неизбежно новое лицо. И это лицо было узнано оком зала и жадно принято им, — так сухая земля принимала дождь.
Легко было, и светло, и ясно отныне в голове зала. Зал знал, что делать, и только ждал сигнала. Все уже происходило, пока только внутри тела и в воображении, но происходило. И каждый отрепетировал свое первое движение, и каждый выбрал себе кресло, которое будет его…
Ах, какая это сила — разрешить человеку одним махом преодолеть то, на что у всех уходят годы, жизнь, род.
Ах, какая это сила!
Она, как волкодав на волка, пускает провинцию на столицу, гонит степь в горы, море разливает на реки, горы переделывает в канавы, грязью заливает могилы, в мгновенье совершает кругосветное путешествие и возвращается с другой стороны, откуда ее не ждут, вешает сама себя, с хреном и с маслом лопает своих щенков, производит на свет Божий музыку и оставляет пуповину, чтобы ужас и боль жили, пока не умрут мать и дитя, меняет богов, как меняют старьевщики тряпки на деньги, жует битое стекло, испытывая наслаждение и гордость за свой желудок, обманывает сама себя и по второму кругу становитя истиной, истиной снаружи и противоположной себе внутри, и в итоге временной, как сама эта сила.
Господи Боже, сколько энергии уходит на то, чтобы в результате прийти к тому, с чего все началось, и через какие потери!..
Сколько бы эта сила вертела колес, двигала крыльев, произвела на свет детей, посадила новых лесов, выдумала новых слов, взамен старых и ничего не обозначающих, новых смыслов, которых, как птицу в брошенный дом, можно было поместить в старые слова, сколько жизней не исчезло бы в безымянности, как волн, растворившихся в океане… Сколько бы тепла прибавилось в каждом доме мира. Ну же, стрелочник, переведи эту силу на основной путь, пусть пролетит, не останавливаясь…
Налево пойдешь — себя потеряешь, направо пойдешь — человека убьешь. Прямо пойдешь — назад вернешься.
Крутятся колеса поезда, и нет никакого выбора, тебя везут, летят вагоны, и уже не разобрать, где имена, где номера, одна летящая масса, которую не остановить, не понять, но и захоти кто-то сойти, голову о скорость оторвет: «Выхода нет» — горит в вагоне, как в салоне самолета надпись «Не курить», где, что «Выхода нет», и писать не надо. И в глазах каждого, уже опрокинутых