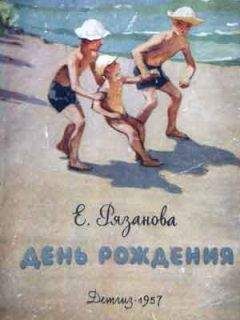В шикарном баре «Европы», сверкающем полировкой дуба и никелем, было, как обычно, немноголюдно и поэтому неуютно. С началом широких волнений в августе 1969 года практически иссяк поток иностранных туристов, которых прежде влекли полноводные реки и озера, славящиеся рыбалкой, тихие рощи и приветливые луга, чуть-чуть патриархальная сельская жизнь, какой уж не встретишь в других странах Западной Европы. Не видно было и бизнесменов. Нет смысла вкладывать деньги в предприятия и магазины, если нет никакой гарантии, что они не взлетят на воздух. Попадались только спекулянты недвижимой собственностью, резко упавшей сейчас в цене, да неугомонные журналисты, которым на роду написано торчать в самой гуще событий, даже когда им эти события поперек горла.
Когда за окнами тяжело бухал взрыв, по реакции можно было отличить аборигенов от гостей. Местные так привыкли, что не обращали никакого внимания, а приезжие вздрагивали: «Слышите, еще один». Они были похожи на ротозеев, глазеющих на агонию жертв автомобильной катастрофы. Для журналистов-старожилов взрывы в Северной Ирландии давно перестали быть сенсацией, разве только окажется небывало много человеческих жертв.
Это сытое, хорошо оплачиваемое, слегка подвыпившее и циничное общество отталкивало, и я вернулся в номер, чтобы по свежим следам записать впечатления прошедшего дня. Засиделся допоздна, поставил наконец точку и вступил в неравную борьбу с окном. С пятой попытки где-то что-то сработало, и в накуренную комнату ворвался ночной воздух.
Улицы будто вымерли, только изредка проходят армейские патрули. Пустуют кафе и ночные клубы. Никто не решается ходить на поздние сеансы в кино, опасаясь взрыва. С наступлением сумерек Белфаст покидают даже водители такси. Никогда не знаешь, кто из пассажиров приставит к затылку пистолет. Хорошо, если удовлетворятся выручкой, а то и машину уведут.
...Моросил мелкий надоедливый дождичек. У подъезда рассаживались в бронетранспортере солдаты сменившегося наряда — молодые, даже очень молодые ребята, попавшиеся на рекламную удочку армии. После долгих скитаний по биржам труда выясняется, что надежд на получение приличной работы никаких, а в газетах и журналах регулярно публикуются красочные объявления, манящие в теплые, неизведанные края, где темнокожие девушки не способны устоять перед чарами «томми». Романтика, пальмы, золотые пески да и подход к делу серьезный: «Нам нужны специалисты разных профилей, и мы сделаем из вас специалистов», — зовет реклама. Правда, с тех пор, как из Белфаста в Англию стали отправлять все больше гробов, на вербовочных пунктах забили тревогу: число молодых людей, пожелавших вступить в английскую армию, сократилось почти вдвое.
Четыре года назад солдат встречали как миротворцев. Лондонская печать трубила, что они «встанут стеной между враждующими католиками и протестантами». Женщины выносили горючий чай, потчевали печеньем. Но «медовый месяц» длился недолго. Регулярные войска вошли в Белфаст и Дерри, чтобы подпереть штыками основы колониальных порядков, давшие глубокие трещины под напором движения за гражданские права. Начались массовые аресты, обыски и облавы, было введено интернирование, затем последовало «кровавое воскресенье» в Дерри, когда английские парашютисты расстреляли мирную демонстрацию, положив насмерть 13 человек. Наконец — прямое правление, операция «Мотормэн» и закулисные торги политических деятелей. А днем и ночью грохочут взрывы и стрельба. Только с августа 1969 года больше тысячи человек пали жертвами английской оккупации Северной Ирландии.
...По улицам Белфаста, усеянным осколками стекла и кирпича, по вывороченным камням мостовой крадется, прижимаясь к стенам, английский патруль. Лица солдат густо измазаны жженой пробкой, чтобы не выделялись в темноте. Даже если солдат двое, замыкающий пятится задом, сторожко скользя взглядом по крышам домов и стриженым кустикам за оградой. Автоматы наготове, пальцы — на спусковом крючке. Вчера вечером в этом районе подорвался на мине бронетранспортер, и было приказано «очистить улицу от террористов». Командиру патруля выдали длинный список «подозрительных лиц». Вышибали двери плечами и прикладами, врывались в комнаты, где семьи отдыхали перед синеватым экраном телевизора. Один оставался сторожить хозяев, другие переворачивали дом вверх дном. Взламывали половицы, вспарывали тюфяки, рылись в книгах и письмах. Не щадили никого и ничего.
Потом снова — враждебная улица с битыми уличными фонарями и стенами домов, вымазанными черной краской. Мазали днем сами солдаты, чтобы в темноте их фигуры не выделялись на светлом фоне. Но в полной тишине, нарушаемой лишь шорохом дождя, предательски громко звучат кованые солдатские ботинки. Хлестнул, как бич, выстрел, другой; как плотная бумага разорвалась — автоматная очередь. Еще не успев залечь, при падении, солдаты открыли огонь. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Сержант приказал перебраться в укрытие поближе к домам. В небольшой луже остался лежать безусый парнишка. Не пригодился защитный «пуленепробиваемый» жилет...
«За что умирают британские солдаты в Ольстере?» — спросили как-то генерала Тьюзо, командующего оккупационным корпусом в Северной Ирландии. «Солдат умирает за дело, которое поручило ему командование в соответствии с политикой правительства ее величества», — четко отрезал генерал. Когда тот же вопрос задали солдату-старослужащему, он ответил после некоторого раздумья: «Да ни за что. Если погибает ирландец, он становится для своих людей мучеником, героем. Он отдает жизнь за то, во что верит. А мы? Да ни за что».
Юрий Устименко
На желтой воде Баргузина толклись черные замусоленные буксирчики. Несло щепу, синие масляные пятна, хлопья коричневой пены. Выбиваясь из сил, буксирчики толкали огромные связки бревен. Вдали сверкали просторы Байкала, в дыхании которого угадывался запах талого снега.
Я сидел в Усть-Баргузине и ждал прихода «Славы». Еще утром капитан ее, Валентин Краснояров, сообщил по рации, что катер придет в десять вечера. Мне нужно было выйти из Баргузинского залива, обогнуть полуостров Святой Нос и попасть в Чивыркуйский залив, к рыбакам.
«Слава» пришла на час раньше. Ее белые мачты, рубки и стекла иллюминаторов засверкали в синих вечерних водах. На площадке пирса толпились грузчики в брезентовых робах, торопились поглазеть на дары чивыркуйских вод местные жители. Из распахнутых трюмов «Славы» хлынули запахи рыбьей слизи и кедровой хвои.
Загрохотали лебедки, поднимая ящики с уловом. Чуть ли не в каждом из них была своя рыба, и люди с удовольствием рассматривали язей, похожих на музейные самовары из серебра, хищные морды щук, красноглазую сорогу, благородно сверкающего омуля, радугу окуней, каждый из которых был величиной с сапог.
До полуночи громыхали лебедки, тарахтел двигатель, горели огни на «Славе». В ветре с Байкала мерещилась январская стужа. Матросы работали в зимних полушубках, несмотря на разгар лета. Я промерз до костей. Спустился в кубрик, согрелся под двумя одеялами и уснул.
Утром я едва не задохнулся от обилия простора и свежести. Усеянная лесосплавом вода Баргузина осталась далеко позади. Металлически сверкали полосы снега на синих вершинах полуострова Святой Нос. На палубе «Славы» мерзли туристы, столь же обязательные здесь, как чайки над рыбацкими дорами (1 Дора — большая лодка.).
Под штурманской рубкой на деревянном диванчике в окружении внуков восседал добрый и симпатичный старик в крепко сшитой овчинной шубе. При знакомстве выяснилось, что деда зовут Николай Степанович Елшин, а работает он лесником в Чивыркуе. Ездил в Усть-Баргузин за внуками. Всю жизнь проживший на Байкале, исходивший Святой Нос вдоль и поперек, старик оказался незаменимым гидом.
— Откуда вышли, почти там же и окажемся, — махнул он рукой в сторону перешейка. — Напрямую, через болота, едва ли двенадцать километров наберется, а мы проплывем все сто двадцать. На месте будем только в полдень.
Справа, зашторивая горизонт, синели почти отвесные стены гольцов Святого Носа. Впереди в широком разливе раннего солнца катилась вода.
Старик (в прошлом и сам профессиональный рыбак) сказал, что рыбака радует другая вода: не сине-зеленая с хрустальными переливами, а слегка матовая, мучнисто-зеленая. В такой воде много эпишуры и юра — главной пищи омуля, «поеди», как говорят на Байкале. Обогащаясь планктоном, вода зацветает к разгару лета, но сердце рыбака болит, если он видит незацветшие, стеклянно-чистые поля воды. Нет эпишуры и юра — нет и омуля!
— Говорят, уменьшились стада рыбы, а мы видим — поедь уменьшилась. Ты знаешь, какая она чуткая, эта поедь! Нагнись с борта лодки помыть руки, и немало юра помрет в ополосках.