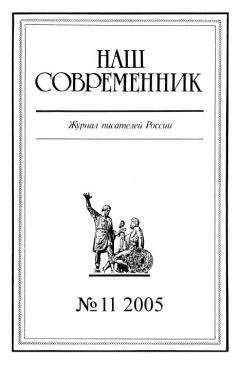А если уж говорить о романе, в котором наиболее сильно сказалось влияние рассказа Платонова «Фро», то это не «Они сражались за Родину», а «Новое назначение» Александра Бека. Небольшой платоновский рассказ «Фро» — это ведь и мини-энциклопедия литературной жизни середины тридцатых годов. Его все так тогда и прочитали, а многие — обиделись… Потому так гневался даже в 1952 году на «Фро» активный участник литературной жизни того десятилетия Александр Бек: «худшие стороны писательского лица Платонова», писатель «противопоставляет ее, девушку, обществу, советской жизни, гражданскому долгу»; «такая идея… делает талантливый рассказ реакционным» (РГАЛИ). А потом, кажется, покаялся за эти слова (мы цитировали внутрииздательскую рецензию; в 1952 году первый посмертный сборник рассказов Платонова так и не был опубликован) и создал, следуя логике поведения платоновской реакционной Фроси-Фро, ироническую модель «новой женщины в „антитоталитарном“ романе…»
И последнее. Статья Журавлева сопровождается фотографией: «Дом М. А. Шолохова в станице Вешенской. Возможно, „Они сражались за Родину“ никто здесь не писал».
Что это: незнание или глумление? Шолохов в годы войны действительно почти ничего не писал в Вешенской, тем более — роман «Они сражались за Родину». В 1942 году при налете фашистской авиации шолоховский дом был разрушен, уничтожен писательский архив. Но, кажется, не это было главной потерей для автора «Тихого Дона» — при бомбежке погибла мать писателя… И здесь пора говорить не о вопросах литературы, а о жизни и элементарной этике, ибо подобная публикация фотографии вешенского дома прочитывается уже не как простительное гуманитарное незнание и невежество, а как сознательное глумление… Нельзя так, господа.
На выступление «Новой газеты» быстрее всех отреагировала «Литературная газета». С защитой Шолохова выступил постоянный автор газеты, известный критик и литературовед Вадим Баранов, посвятив теме «Платонов и Шолохов» статью с язвительным заглавием «Не надо обижать негров» («ЛГ». 13–19 апреля). Все бы ничего, если бы не новые грубейшие ошибки, а главное, какое-то странное (по сути) и страстное (по форме) желание защитить Шолохова от Платонова. Последнее, кстати, весьма напоминает методологию защиты Шолохова от его хулителей, которая нам известна по советским толстым монографиям о Шолохове 60–70-х годов. Так, к примеру, к утверждению, что никаких связей Платонова и Шолохова быть не могло, преподносится ни больше ни меньше как сенсация («Читателя ждет здесь полнейшая сенсация!») следующий аргумент: «Писем нет!.. Совсем! Ни с той, ни с другой стороны». Выше мы цитировали именно письмо Платонова. И кто знает, что нас еще ждет впереди… Другой аргумент защиты Шолохова от Платонова не менее странный: «…В обстоятельной монографии Г. Ермолаева… имя Платонова фигурирует всего один раз и совершенно безотносительно к проблеме рукописи „Они сражались за Родину“». Добавим, что и в вышедшей не менее «обстоятельной» книге Ф. Кузнецова Платонов тоже упоминается всего один раз… Из этого следует именно то, о чем мы выше писали. Еще один аргумент В. Баранова как защитника Шолохова от Платонова оказался удивительно близким «врагам» Шолохова. Этот аргумент звучит как заклинание: «Но мог ли Платонов, этот, может быть, самый неповторимый стилист в отечественной литературе XX века, перестать быть самим собой и начать писать „под Шолохова“? Это исключено начисто» и т. п. То есть получается, что Платонов — стилист, а Шолохов — вовсе и не стилист? Как говорится, защитили. Скажем и о прямой ошибке у Баранова. Шолохов был редактором не платоновской книги башкирских сказок, как то утверждается, а русских сказок «Волшебное кольцо». Последние издать было значительно сложнее, чем первую книгу сказок…
По «гамбургскому счету», о всех нас — и сегодняшних хулителях, и защитниках Шолохова — можно сказать словами Бунина из его пушкинской анкеты: «Никак я не смею к нему относиться». И это будет единственная правда в истории отношений литературной общественности и Михаила Александровича Шолохова.
И последнее. Ни для Шолохова и Платонова, ни для Пушкина и Бунина выражение «гений в неграх родины» не звучит оскорбительно, как то представляется авторам-остроумцам «Новой газеты». Но это уже другая тема.
Сергей Викулов
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
В Вологде вышел в свет альбом графических работ народного художника России Джанны Тутунджан. В нём всё необычно, начиная с названия. В самом деле, разве не диво, что на обложке тяжелого фолианта (издательского стандарта при воспроизведении живописных полотен) в качестве названия красуется словечко совсем из другого ряда — «Разговоры»…
В надежде рассеять недоумение открываю первую страницу альбома. На ней — авторское вступление, в котором искреннее признание в любви к русскому Северу, к его деревням и селам, к людям, живущим в них… А ещё — нетерпеливое ожидание встречи с ними, радостное предощущение творчества: «…Я войду в незнакомый дом… и буду рисовать то, что вижу, и слушать, слушать, слушать»…
Трижды повторенное «слушать» сразу заставляет думать, что будущий рисунок для художника не главное из того, что произойдёт в доме, в который она войдёт. Главное — то, что будет в нём услышано, то есть слова, сказанные позирующим человеком, слова, которые, как снимок на фотоплёнке, проявят, высветят его душу — в радости ли, в печали — до дна. Сама художница об этом сказала так: «Больше всего на свете меня волнует состояние Души — Человека, Народа, Страны».
Прекрасно! Но как передать это состояние? Рисунком? Можно, но лишь отчасти. Исчерпывающе же, на всю глубину — только словами, самыми правдивыми, самыми весомыми в данном разговоре. Расслышать эти слова — для художницы всё равно что поймать золотую рыбку. Расслышать — и записать их. И восхититься, увидев, что они стали единым целым с рисунком, последним штрихом к нему.
Кого-то из поклонников художницы (а уж искусствоведов — обязательно) столь неожиданный синтез рисунка и слова немало удивит: а не озорство ли это? — подумают они. Подобные сомнения были и у меня. Но чем дальше листал я альбом, бормоча при этом многообещающее словечко «разговоры», тем больше убеждался, что никакого озорства в этом синтезе нет. Всё серьёзно, всё естественно, хотя и непривычно, потому что ново. И, как творческий приём (если не забывать, что речь идёт о творчестве), имеет полное право называться не просто новым, а новаторским.
Уверен, не женский каприз, не разыгравшаяся фантазия в минуту игривого настроения привели художника к этому приёму, а радостное удивление открывшимся ей затерянным в вологодской глуши миром, а точнее — народом, образ которого она вознамерилась запечатлеть для потомков.
Таланта живописца для этого оказалось мало, хотя успех персональной выставки её работ в Москве обеспечен был, в первую очередь, именно зрительным рядом. И вот при новых встречах с аборигенами деревни Сергиевской кисть художника всё чаще стала уступать место фломастеру, потому что он «работал» намного оперативней, а главное, «мыслил» глубже, гражданственней, социальней, публицистичней. И решающую роль в этом играли именно «разговоры», которые успевал он записать на том же листе ватмана.
При этом каждый раз думалось: а, собственно, почему бы и нет? Если рисунки к художественному тексту (к роману, к повести) смотрятся вполне естественным и даже приятным приложением, то почему не могут быть таковыми тексты к рисункам, к портретам, в первую очередь?
Так родилась оригинальнейшая серия графических работ Джанны Тутунджан, названная «Разговоры» (на титуле — с добавлением: «по правде, по совести»). 200 с лишним рисунков (можно добавить — озвученных) составили эту серию; 129 из них художница включила в альбом, перелистать который я и приглашаю читателя…
Почему же художница — южанка по крови — навсегда выбрала Север? Можно предположить, что решающую роль в этом выборе в молодости сыграл учившийся вместе с нею в Суриковском институте замечательный парень из-под Вологды Коля Баскаков, ставший поначалу её другом, а по окончании института — мужем. Найдя в нём надёжную опору, Джанна Татджатовна в 1959 году приезжает в Вологду, ставшую — теперь это можно сказать определённо — второй её родиной. Горячо, восторженно, сострадательно любимой.
С первых же лет жизни в Вологде художница поняла, что экзотики древнего города, ровесника Москвы, красивейшей природы вокруг него — ей недостаточно. Тянуло в глушь, в деревни и сёла, затерянные за тёмными лесами, синими озёрами, величественными в своей медлительности реками. А главное — тянуло к людям, олицетворявшим коренную, глубинную Россию. Оставалось лишь решить: куда отправиться. Выбор пал на Тарногу, один из самых отдалённых — в сторону Вятки — районов. Прадеды называли это поселение «Тарногским городком», кстати, как и соседнее — «Кичменгским городком», основателями которых, по преданию, были новгородские ушкуйники.