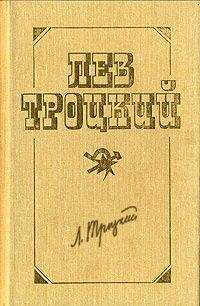А как мгновенно меняются места действия! То мы на берегу Каялы под дождем стрел, то на киевских горах, то на Волге, то на Дунае... Полоцк, Белгород, Чернигов, Курск, Переяславль, Римов, Путивль, Тмутаракань, оба Новгорода, и снова Путивль, снова Киев...
А рядом с именами русских городов и рек — названия соседних языков: могуты, татраны, шельбиры, ревуги, хинова, литва, ятвяги, дремела. И далее — готы, немцы, венгры, греки, венецианцы. Можно сказать, что вся Европа с вниманием следит за тем, что происходит в степи у Дона Великого. Мы замечаем, что автор «Слова» создает перед нами какое-то совершенно особого рода пространство, настолько открытое, тесное, компактное и удобообозримое, что на нем, к удивлению своему, видишь все разом: и встречу двух враждующих станов, и беспокойство остальных русских князей, и горе Ярославны, и тяжелую работу пахаря на запущенном, одичалом поле.
На таком вот просторе никакой исторический поступок не может быть спрятан, замаскирован. Здесь все и отовсюду просматривается. Здесь нет второстепенных действий, нет малозначащих ситуаций.
Автор «Слова» поровну делит со своим героем беду и радость. И вот не только мыслью, но и горюющим сердцем своим он растекается по всей русской земле. Он страстно желает видеть ее единой, целокупной. Он присутствует везде сразу, в любой ее точке, как носитель вечевого соборного слова.
И потому, когда Игорь бежит из плена, вся Русь и все соседние земли в прямом смысле слова видят его, слышат каждый его шаг. Только преследователям он не виден на этом абсолютно просматриваемом пространстве.
Возвращение Игоря на родину сопровождается нарастающим звуком общего ликования: «Страны рады, грады веселы...» Вместе с князем эта радость поднимается с киевского Подола вверх по Боричеву взвозу, на горы. С киевских гор виден Днепр, луга, леса, строгие дали — половина земли видна отсюда.
Для плача поднималась жена Игоря на путивльскую кручу. И он теперь поднялся на гору — для веселья. Так на Руси издавна и для горя и для радости нужен простор, нужно высокое место, чтобы и сама земля делалась причастной людскому чувству.
Звонят с киевских гор, «звон же тот» слышат на других холмах и кручах — в Чернигове слышат и в Галиче, в Полоцке и Владимире, в Новгороде и Путивле. «Страны рады, грады веселы...» Только в Путивле радость на слезах замешана, потому что еще не остыли после недавнего налета степняков обугленные тыны.
И недаром на таких вот холмах чувствуешь себя по-особому: слишком много помнит их почва и тревожного и торжественного...
Ю. Лощиц
— Что делаете? — обратился к мастерам незнакомец.
— Обтесываю камень, будь он неладен, — сказал первый.
— Не видишь, глину лопачу, — буркнул второй.
— Я строю Шартрский собор, — ответил третий. (Старая притча)
Какого цвета Нотр-Дам?
— Пепельный до черноты зимой, синий солнечным летом, табачно-бурый осенью. А вообще это зависит от вашего настроения, — скажут, припоминая, знатоки и очевидцы. — Временами — мрачный, временами — праздничный...
И вдруг, это случилось чуть более года назад, собор Парижской богоматери оказался белым! Это было поистине откровением.
Как представляем мы себе исторические открытия? Полуистлевшие пергаменты в заброшенных пещерах, археологический раскоп где-нибудь в степи или пустыне. Но Нотр-Дам! Сколько сотен лет он в центре внимания архитекторов и историков, живописцев и кинооператоров, парижан и туристов со всего света! Его знал всякий. И вот оказалось, не знал никто.
Архитектор Бернар Витри, которому поручили реставрировать собор, перебрал десятки составов и эмульсий, чтобы сделать заключение — пригодна лишь обычная вода. Только брызги чистой воды под слабым давлением могут безвредно снять полусантиметровый слой копоти и грязи со старых камней. Вторая проблема — как возвести леса — решилась неожиданно просто. Каменщики средневековья будто позаботились об этом: они предусмотрительно оставили отверстия между камнями в стенах, и сегодняшние монтажники с благодарностью крепили в них трубы, из которых свинчивали затем строительные помосты. А потом много дней стоял Нотр-Дам, задернутый темными полотнищами, скрытый от глаз, словно памятник перед открытием.
Туристы тех дней расстроенно опускали камеры и жаловались друг другу на невезучесть.
— Немного позже. Он умывается, мсье, — разводили руками гиды.
А там, за кулисами, реставраторы смешались с толпами святых и дьяволов. В многолюдной истории человека Теофила (он умер еще в 190 году нашей эры), продавшего якобы душу сатане и спасенного в конце концов Святой Девой (ей и посвящен собор), оказались непредусмотренные персонажи. Молодые парни в кепках и спецовках исправляли кладку по всем правилам готического искусства и крепили над каменными фигурами водяные шланги; тысячи статуй, и на каждую — по десять часов душа. Капли стекали по щекам королей; апокалипсические демоны и химеры, выкатив бельмы, смотрели, как движется дело...
Пал занавес. И все увидели собор белого камня. Белого и немного золотистого, теплого, как человеческое тело. По-другому прочлась тогда старинная запись монаха из Бургундии Рауля Глобера: «Скинув рубище, мир оделся в белые покровы соборов». А стандартные, бывшие веками в ходу метафоры о «мрачных стенах» средневековья оказались по меньшей мере неточными.
Знакомые всем старые стены готических соборов, до сих пор определяющие силуэт Западной Европы, обернулись загадкой.
Бывает такое детское желание: забраться в картину — ну, хотя бы в эту миниатюру Жана Фоке, — чтобы очутиться вдруг в синеющем вдалеке средневековом городе. Осколки строительного камня последним снегом лежат на траве, отчего кажется, будто весна. Если пойти по корявой булыжной дороге за громыхающими повозками, груженными камнем, то подойдешь к самой стройке.
Смотрите — в самом центре миниатюры седобородый Карл Великий расслабленным царственным жестом указывает на растущие стены. Красивыми складками спадает мантия короля, а свита в бархатных камзолах позади него, неподвижная и слитная, будто продолжение мантии, ее шлейф.
Зато каменщики, хотя ни одежды их, ни позы красотой не блещут, — каждый нарисован отдельно.
— Простите, мессир, то, что вы строите, — это будет ранняя или зрелая готика, «лучистая» или «пламенеющая»? — могли бы спросить мы у мастера наподобие незнакомца из притчи.
Ответа бы не дождались. Четкие деления по направлениям и стилям, поучительные объяснения, что следует за чем и почему, — все это приходит много позднее, и зачастую как подгонка под теорию комментатора. «Готика»? Это слово было неведомо тем людям, чьи времена мы уверенно зовем готическими. Зовем, не подозревая, что в определении этом первоначально слышалась неприязнь и осуждение. Нет, с готами — «полудикими разбойными племенами» — готика не имеет ничего общего. Но для законодателей вкусов высокого итальянского Возрождения сооружения раннего средневековья рисовались нелепицей, безвкусной и грубой — «готической» («варварской») выдумкой.
Самым вероятным ответом каменщика на наш вопрос, пойми он, в чем дело, было бы:
— Собор будет красивый и большой. Больше и красивее прежнего.
Город под крышей
Размеры кафедрального собора — вот что являлось предметом престижа и соперничества городов. Великие храмы греков уступают по величине даже средним сооружениям средневековья. Парфенон в принципе можно разместить под соборными сводами, как экспонат в выставочном зале. И это не случайно.
Собор готических времен полагался домом не только господа, но и верующих. Собор в Амьене покрывает семь тысяч квадратных метров площади и был способен укрыть при надобности за стенами все население города.
Возводить такие сооружения стало возможным после изобретения стрельчатой арки, каменных нервюрных сводов. Опробованное на строительстве английского собора в Дергеме (XI век) нововведение очень скоро разнеслось по Западной Европе. Стена складывалась, как ствол дерева, — со множеством отходящих ветвей, одна арка опиралась на другую, вторая на третью, свод становился на плечи своду. Промежуточные опоры, тяжелые перекрытия, ограничивающие объем построек, более не требовались; могучие контрфорсы выносились теперь наружу зданий.
В колоссальных соборных залах звук мог гулять, не встречая препятствий. Слабый, старческий голосок епископа гудел под зонтичными сводами, как глас божий. Детский хор пел тысячью ангелов, а мощное дыхание органа поражало воображение богомольцев, заставляло дрожать толстенные плиты.