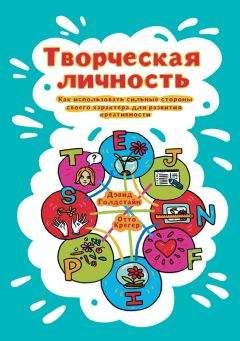Новизна пейзажей Васильева была в музыкальном настроении. По мнению выдающегося музыканта и тонкого знатока русской живописи Б.В. Асафьева (см. его книгу «Русская живопись. Мысли и думы»), музыкальный лиризм новой живописной эпохи, предчувствуемый Васильевым и «подхваченный» и развитый Левитаном, выражался в том, что видимое скорее ощущается как слышимое внутри. Это было чисто русское любование природой в ее скромнейших проявлениях, притом любование, «не крикливое, не позирующее, а «стеснительное», без навязывания.
В эпоху 80-90-х годов, когда революционное народничество изжило себя, а либеральное с его «малыми делами» не способно было вдохновить художников, они метались между интересом к общественной, гражданской проблематике и отходом от нее то «в лирическую бессо-бытийность, то в сказочность, то в религиозную патриархальную утопичность» (А.А. Федоров-Давыдов).
Искусствоведы (С.А. Пророкова и др.) справедливо видят в ряде картин Левитана («Тихая обитель», «Вечерний звон», «На озере») известную близость к проникнутой религиозной умиленностью трактовке русской природы в картинах современника и сотоварища Левитана – М.В. Нестерова. Однако общезначимой была не сама по себе религиозность. Гораздо важнее подчеркнуть (как это делает Федоров-Давыдов) социальную «общезначимость» того факта, что Нестеров, Левитан и другие большие художники того времени выражали социальные «волнения» таким именно образом.
Характерный для того времени особый интерес к национальному в жизни и в искусстве, поиски художественного выражения «души народа» присущи были не только М.В. Нестерову, но и, например, В.М. Васнецову. В творчестве Левитана традиции васнецовской сказочной трактовки пейзажа искусствоведы видят в картине «У омута». Когда Федоров – Давыдов, отмечая данное обстоятельство, делает важную «оговорку» о том, что эти традиции не просто взяты Левитаном со стороны, а «органически спаяны с его собственным творчеством», речь идет не о простом подражании, а о творческом акте художественной эмпатии.
Левитан, обладая «особой чуткостью и нервной проникновенностью», сопереживал – что и придавало его живописному новаторству общественное значение – не только современникам-живописцам, но и писателям, поэтам, музыкантам.
Хорошо известна «эмпатическая» близость Левитана и Чехова. В одном из писем к Чехову Левитан писал: «В предыдущие мрачные дни, когда охотно сиделось дома, я внимательно прочел еще раз твои «Пестрые рассказы» и «В сумерках», и ты поразил меня как пейзажист. Я не говорю о массе очень интересных мыслей, но пейзажи в них – это верх совершенства, например, в рассказе «Счастье». Можно увидеть сходство мыслей и чувств «Пестрых рассказов», «В сумерках» и таких картин Левитана, как «Вечер на Волге», «Над вечным покоем», «У омута». В рассказе «Случай из практики» есть пейзаж, близкий по настроению «Тихой обители» и «Вечернему звону» («Теперь накануне праздника собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце, – отдыхать и, быть может, молиться»).
Левитан прекрасно знал и любил русскую поэзию. Его впечатлительная душа не могла не воспринимать многие традиционные мотивы. Один из них – мотив «дороги», дорожных «дум».
Я. Полонский в «Телеге жизни» сопоставляет дальнюю дорогу с человеческой жизнью, Лермонтов (любимейший поэт Левитана): «Проселочным путем люблю скакать в телеге…», Гоголь: «Какое странное и манящее и несущее и чудесное в слове: дорога! и как чудна она, сама эта дорога…» Вспомним «Дорожную думу» и «Тройку» П.А. Вяземского, «Дорогу», «Зимний путь» и «Телегу жизни» Я.П. Полонского, «В дороге» Н.А. Некрасова, «Колодников» А.К. Толстого, «Странника» А.Н. Плещеева, «Дорожную думу» А.Н. Апухтина (одного из любимых поэтов Левитана). Это традиционное и привычное поэтическое восприятие дороги в связи с размышлениями о жизни и судьбе позволило Левитану органично, а не внешне прочувствовать этот мотив и отразить его как в знаменитой «Владимирке» («дороге слез и скорби народной, дороге, которая олицетворяла бесправие и угнетение народа, как бы сливалась с его горькой судьбой»), так и в других картинах («Осень. Дорога в деревне», «Дорога в лесу», «Шоссе. Осень», «Лунная ночь», «Большая дорога» и др.).
Обратимся теперь к «феномену Пикассо». Искусствовед Н.А, Дмитриева в статье «Судьба Пикассо в современном мире» пишет, что вообще приятие или неприятие того или иного художника, в частности Пикассо, зависит не столько от степени эстетической культуры, сколько от «состояния умов» в более широком смысле – «от мироощущения, которое назревает подспудно, постепенно пропитывая общественное сознание на его различных уровнях».
И тем не менее художественные открытия делают те творческие личности, которые (как Пикассо) и в эстетической, и в собственно художественной сфере добиваются общезначимых результатов.
Мировые экономические кризисы, две мировые войны, экологический кризис, угроза всеобщего ядерного уничтожения – все это убедило человека XX века в том, что завоеванное им не приносит ему блага, ибо «в нем самом таится саморазрушительное начало». Приняв близко к сердцу это мироощущение миллионов людей, их всеобщий интерес, Пикассо «восстал на саму человеческую природу: «Я понял: я тоже против всего. Я тоже верю, что все – неведомо, что все – враждебно. Все! Не просто детали – женщины, младенцы, табак, игра – а все вместе». Именно из этого источника и росло ироническое и гротесковое саморазрушение художественной формы (см. например, «Авиньонские девицы») как одна из характерных черт искусства великого новатора живописи XX века. Оно отвечало определенным эстетическим и художественным «потребностям общества на роковом, кризисном этапе истории».
Но Пикассо велик потому, что он принял близко к сердцу и другой всеобщий интерес, и другие, связанные с ним, чувства: светлые, возвышенные устремления к счастью и надежды, сопрягаемые с всеобщим движением за мир (иллюстрации к произведениям авторов античной эпохи, знаменитая «Голубка» и др.). Из этого источника растет иная стилистика (тоже новаторская) искусства Пикассо – стилистика гармоничных форм. В итоге, как сказал об искусстве Пикассо поэт Поль Элюар, оно «то, что всем нужно».
Рядом с Пикассо работали не менее значительные художественные индивидуальности – Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Райт, Эро Сааринен, Майоль, Матвеев, Барлах, Мур, Фаворский, Матисс, Руо, Леже, Кандинский, Шагал, Сикейрос и многие другие. Сейчас, когда XX столетие завершается, «стало совершенно очевидным, – считает В.Н. Прокофьев, – сколь яркий и многогранный кристалл культуры был им выращен. Те, чьи имена были только что перечислены, образуют грани этого кристалла. Но Пикассо – не грань, пусть даже искрометная. Он – сердцевина, стилеобразующий и стилеизменяющий фокус почти всех граней художественной культуры новейшего времени. Он в ней – самая универсальная и динамическая индивидуальность».
Пикассо сопереживал (и реально участвовал) всем важнейшим художественно-стилистическим движениям века. Он «откликался на все голоса времени, но откликался всегда по-своему, в любом течении занимая особое место».
Жить в образе. Согласно принятому нами определению, творчество всегда содержит в себе элементы неожиданности, непредсказуемости, незапрограммированности, импровизационности. Все эти признаки напоминают свойства жизни, И это не случайно: жизнь и творчество человека имеют «общие генетические корни» (А.Я. Пономарев).
Установление аналогии между творческим актом рождения новых образов и идей и процессами биологического рождения имеет давнюю историю. Не углубляясь в нее, приведем лишь наблюдения К.С. Станиславского. В акте художественного творчества режиссер находит много общего со всякой другой созидательной работой природы. Здесь наблюдаются «процессы, аналогичные с осеменением, оплодотворением, зачатием, рождением, образованием внутренней и внешней формы… есть и свои творческие муки, точно при рождении, и разные периоды… и определенное время, необходимое для выполнения творческой работы… Есть и свои способы питания и вскармливания… и неизбежные болезни при росте и прочее. Словом, своя жизнь, своя история, своя природа, с ее живыми, так сказать, органическими элементами души и тела».
По поводу такого рода аналогий в нашей научной литературе обычно высказывается лишь критическое суждение, указывающее на биологизацию социального в своей основе акта творчества.
По нашему мнению, этому правильному (в своем главном содержании) суждению присуща некоторая односторонность, связанная с недооценкой органической, естественно-исторической формы протекания творческих процессов, с недооценкой тех общих «генетических корней» между жизнью и творчеством, о которых говорилось ранее.
Без эмпатии органичность творческого акта невозможна, и в этом мы видим третий теоретический довод в защиту нашей гипотезы об эмпатической способности.