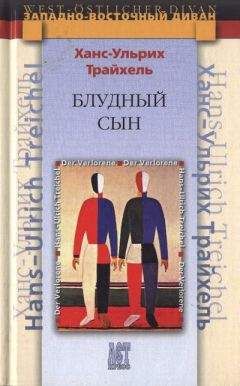Можно ли сказать, что это была выставка об архитектуре и утопии?
Ну, если взять, к примеру, Булле, который жил во времена Французской революции, то он построил очень мало, и от него нам в наследство достались только красивые гравюры. Еще ему принадлежат несколько рисунков большого формата, все — черно-белые, выполненные «в тенях». Потом, на выставке были Леду, Лоос, «Де Стейл», архитектура Утрехта и новейшая архитектура тех лет. И вот, поскольку у меня был опыт организации этих выставок, друзья посоветовали мне подать заявку в Музей Ван Аббе в Эйндховене — они как раз искали нового директора. Я так и сделал, и, к моему удивлению, в результате отбора осталась только моя кандидатура!
И вы превратились из инженера в директора художественного музея. Когда я разговаривал с Крисом Дерконом, он всячески подчеркивал, что именно поэтому ваша кураторская деятельность повлияла на такое множество людей и сегодня сохраняет свою значимость для молодого поколения кураторов. Основа вашей кураторской практики — это междисциплинарность. В чем это проявлялось, когда вы были куратором в Музее Ван Аббе?
Вы правы. Пересечения разных дисциплин с самого начала были мне наиболее интересны. Об этом — моя последняя книга [Beeldarchitectuur en kunśt: het sammengaan van arehiteétuur en beeldende kunśt, 2001], в которой разбираются взаимоотношения образа, архитектуры и искусства. Я начал с Древнего Египта и довел свое исследование до 1990 года.
Когда вы получили неожиданное назначение в Музей Ван Аббе, какие у вас были планы, какие проекты у вас уже были задуманы?
Когда я получил эту должность, мой интерес к междисциплинарности уже начинал обретать форму. Меня чрезвычайно интересовали художники объединения «Де Стейл», которым я занимался еще для выставки в Делфте. Я очень любил Эль Лисицкого. Но первая моя выставка в Ван Аббе была посвящена искусству и театру, и ее открытие было приурочено к открытию нового театра в Эйндховене. Она делалась мной по этому случаю, и было это в сентябре-октябре 1964 года.
Какие-то кураторы тогда повлияли на вашу кураторскую практику? Например, Виллем Сандеберг?
Да. Тогда я уже был знаком с Сандбергом; он даже написал письмо в мою поддержку, когда я выставил свою кандидатуру на место в Эйндховене. Это был фантастический человек. И молодое поколение в общем-то знало о его репутации за рубежом. И хотя многие критики не одобряли его политики, у меня он вызывал восхищение. Он был фантастически работоспособен; спал по нескольку часов в сутки. Часто он отправлялся спать после ужина — на час-полтора, потом до утра работал, утром — еще час сна, и после этого он отправлялся в музей. У него был жесткий распорядок дня. ел он умеренно, выпить любил, но без излишеств; он прекрасно себя контролировал.
И Сандберг, как и вы, не был историком искусства, он пришел из графического дизайна — так что междисциплинарность, возможно, отчасти объясняет и его значимость.
Да. Другой пример того же рода — это Эди де Вильде, мой предшественник в Музее Ван Аббе, который изучал право.
Как и Франц Мейер.
Думаю, важно отметить, что тогда лишь немногие музеи уделяли внимание архитектуре. А поскольку я сам пришел из архитектурной среды и был связан с ней профессионально, то архитектурная тематика занимала меня особо. Я, например, сделал выставку Адольфа Лооса. Тогда, в 1965 году, у нас состоялись три выставки подряд — еще был Дюшан и очень важная выставка Эль Лисицкого, после которой Музей Ван Аббе приобрел целый корпус его рисунков и акварелей. В 1967 году я сделал выставку Мохой-Надя, потом — Пикабиа и вант Гоффа, а в 1968 году — выставку Тео ван Дусбурга. Потом — Татлина… Как видите, я довольно много внимания уделял искусству 1920-х и начала 1930-х годов. Если, опять же, говорить именно об искусстве и о том, что в нем происходило, то большое значение имела серия выставок под названием «Компас». Первая открылась в 1967 году и была посвящена Нью-Йорку, в 1969-м я сделал выставку про Лос-Анджелес и Сан-Франциско — она называлась «Компас. Курс на Западное побережье» (Kompass Weśt Coaśt). Для меня эти выставки были очень важны. Между ними состоялось несколько выставок про архитектуру, a позже, в 1969 году, я сделал выставку, которая представлялась мне весьма значимой социально и которая называлась «План города» (City Plan). Там мы представили новый план Эйндховена. К сожалению, он так и не был реализован в масштабе 1:1, в городе, но план был прекрасен. Для выставки отводилось четыре зала, восемь на двенадцать метров каждый, и я построил там фрагмент плана, заняв все пространство. Модель строилась в масштабе 1:20, и построена она была таким образом, что по ней — по ее улицам — можно было гулять, проживая этот дизайн непосредственно.
Этим проектом вы занимались вместе с каким-нибудь архитектором?
Да, я работал с Ван ден Броком и Бакемой; с Ван ден Броком мы вместе оканчивали курс [в университете], а Бакема с ним сотрудничал. В те годы Бакема в значительной мере отвечал за настоящий план Эйндховена — и мне тем более интересно было работать с ним над созданием нашей модели.
Вернемся на минуту к вашим проектам про художников и архитекторов 1920-х годов: как ваш интерес к слиянию архитектуры, искусства и дизайна, которое мы видим, к примеру, у Эль Лисицкого или ван Дусбурга, воспринимался в Голландии в те годы?
Лисицкий был и архитектором, и художником одновременно. То же касалось ван Дусбурга; он был художником, но в 1920-х годах начинал с архитектуры. Та выставка действительно имела тактическое значение, потому что в 1960-х годах ван Дусбурга знали прежде всего как организатора движения «Де Стейл», а не как художника perse. Моя жена — племянница Нелли ван Дусбург, и благодаря этому родству я смог показать некоторые его работы на делфтской выставке 1962 года. А посылая заявку в Эйндховен, я уже знал, что сделаю более полную выставку ван Дусбурга. Я хотел открыть своим коллегам глаза: ведь ван Дусбург считался всего лишь последователем Мондриана. Что ж, он действительно был его последователем, но ему удалось создать на этой основе нечто новое. Он соединил искусство с архитектурой, на его счету такие проекты, как реконструкция ресторана-кабаре «Обетт» в Страсбурге, дом в Медон-валь-Флери. Тогда я еще не знал этого, но моя жена оказалась единственной наследницей Нелли ван Дусбург, и позже мы решили передать все унаследованные работы голландскому государству. Условием при передаче дома было то, чтобы в нем по году могли жить молодые художники.
Что-то вроде арт-резиденции… Когда думаешь о 1920-х годах, то из кураторов первым делом вспоминаешь Александра Дорнера, директора Ланде с музея Ганновера. Можно ли сказать, что Дорнер был для вас еще одной фигурой влияния?
Да, и очень существенной. Я много цитирую Дорнера в своей новой книге. Выставку Эль Лисицкого я делал в сотрудничестве с Ганноверским музеем; кроме того, я был знаком с вдовой Дорнера.
Поразительно! То есть наследие Дорнера было для вас очень актуально?
Да, можно сказать так.
Для меня его книга «Путь за пределы „искусства“» (The Way Beyond «Art») стала своего рода библией; я наткнулся на нее, когда был студентом, и с тех пор перечитывал ее много раз.
Я тоже читал ее, когда был студентом. Его идеи были довольно хорошо известны, когда я начал работать в Эйндховене. Но я уважал его не только как автора этой книги, но и как личность. Он оставил Ганновер и уехал в Америку, где ненадолго опять стал музейным директором, а потом — профессором искусствоведения.
И Сандберг, и Дорнер отстаивали идею музея как лаборатории. Йоханнес Кладдерс тоже настаивал на том, что музей должен быть пространством рискованных экспериментов, пространством, в котором строятся мосты между разными дисциплинами. Вы тоже считаете идею музея как лаборатории актуальной?
Да. По крайней мере, отчасти… В 1972 году за «Планом города», который я уже упоминал, последовала еще более масштабная выставка «Улица. Форма совместного существования» (De śtraat: Vorm van samenleven). В этой выставке мы хотели исследовать разные формы общежития. Почему мы сделали выставку про улицы? Начало было положено «Планом города» 1969 года, где мне казалось очень интересным показать, что эксперименты 1960-х — будь то инвайроменты или хеппенинги — были теснейшим образом связаны с урбанистической идеей. Сначала Эйндховен был лишь ее отправной точкой, но материал оказался настолько обширным, что я решил посвятить плану Эйндховена всю выставку. Муниципалитет Эйндховена выказал заинтересованность в том. чтобы развить изначальную идею, — и так получилась выставка про улицу. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу о лабораторности: как видите, здесь был экспериментальный аспект, но если вы хотите пробудить у аудитории интерес к искусству, то вы должны не только его показывать, но и понять, что именно людям интересно. Улицы создаются не только архитекторами, урбанистами и проектировщиками: в реальности улицы создаются самими людьми — теми, кто этими улицами пользуется; чем люди занимаются на улицах, каким смыслом они их ежедневно наделяют… В базарный день улица, например, приобретает совершенно иное значение (и вид), нежели в воскресенье.