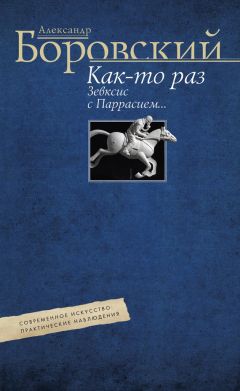Коржев принадлежит к редчайшему в то время типу охотника за сюжетами. «Журнализм», злободневность здесь ни при чем: художник берет в работу традиционные фабулы, от библейских до литературных (Дон Кихот и пр.), добиваясь самостоятельного сюжетного разворота. «Придумывает» сюжеты и сам: так, к середине 1980-х годов он создает целый народец тюрликов, результат негативных процессов эволюции человеческого типа. Коржев, в какой-то внутренней, не понятой современниками полемике с официально-оптимистической картиной мира, тяготеет к драматическому развитию своей сюжетики. Эта полемика проходит не по политической линии (поэтому художник никогда не пользовался вниманием со стороны политизированного андеграунда). Она проходит по линии цивилизационной. Разбивается оземь первый русский летун («Егорка-летун»), беззащитные люди гибнут на войне («Заслон»), в городских катастрофах («Наезд»), спиваются («Адам Алексеевич и Ева Петровна»), деградируют. Последнее – важный момент позднего творчества Коржева. Собственно, его «Мутанты» (серия «Тюрлики») – крайнее проявление деградации, прошедшей точку невозврата. Это «последнее предупреждение» художника, глубоко разочарованного состоянием общества. Он пытался захватить социально-нравственную деградацию на том ее отрезке, когда возможно еще выздоровление. Когда событие сюжета еще обладает потенциалом развития («Вставай, Иван!»). Но чаще его диагнозы становились все более безнадежными. Художник избегал политических обобщений, хотя, видимо, уже не питал иллюзий по поводу будущности советского проекта в целом. Кажется, он исследовал «простого человека» советского извода в его житейском контексте (пьянство, лишение родительских прав, невозможность социальной адаптации) – об этом говорят подробные, тщательно прописанные приметы среды и быта. На самом деле его интересовал, я бы сказал, горизонт антропологический. Коржев нашел собственный синтез категорий скрытого сюжета и телесности. Уже в «Обреченной» он показал его: цветущее обнаженное тело полной сил женщины у экрана рентгена. Еще не произнесен роковой диагноз, но роковой сюжет запущен. Так же и в других вещах: телесное, вполне активное – дышащее, здоровое, испытывающее какие-то потребности («желающая машина», по Делезу), несет в себе сюжеты распада (в данном случае Коржев, наверное, примирился бы с терминологией Р. Барта – «тело как текст»). Однако Коржев – слишком сопереживающий художник, чтобы ограничиться «голой текстуальностью». Сюжеты (социальные диагнозы, индивидуализированные конкретными человеческими судьбами) автор «разворачивает» как бы постфактум под знаком традиционных русских вопросов (Как дошли до жизни такой? Кто виноват? и пр.). Антропологическая установка, скрытая событийность сюжета, нескрываемая вовлеченность – на исходе века Коржев-рассказчик проявил себя как архаист-новатор.
Концептуализм «рассказывал некую историю» (выражение Ж. Женетта), минимизируя материальный план. Г. Коржев – находя новые языковые возможности самого материального плана, его многоуровневой разработки. Это были своего рода два полюса повествовательности. Разумеется, к повествовательному ресурсу обращались и другие художники. В Ленинграде – Петербурге с 1970-х годов постоянным «рассказывателем историй» является В. Овчинников. Его поэтика сочетает острую наблюденность и отсылки к библейской и – шире – литературной образности (персонажи художника выхвачены из текущей реальности – это легко узнаваемые типы альтернативной советской жизни: ангелы-непротивленцы, бомжи, инвалиды, мечтатели, аутисты, феи – подруги художников и пр. Одновременно это персонажи-отсылки: они напрямую обращены к библейским и литературным архетипам). Этой двойственной установке соответствует отработка формы. Форма квазиматериальна: она отсылает к поп-арту с его диалектикой гиперматериальности и пустотности. Пустотность здесь не содержательного плана. Думаю, она очень органично рифмуется с метафизичностью: бомжи обращаются в ангелов и т. д.
Нарративность у Овчинникова лимитирована: он оперирует в большей степени фабулами. Он не дает сюжету самостоятельного развития, вообще, действие у него заторможено, его главной характеристикой остается, в терминологии Н. Н. Волкова, «взаимодействие фигур как проблема общения». Действие опосредовано формой притчи с ее инвариантностью решений. К этому же поколению относится и В. Гаврильчик, художник сложного замеса, долгое время ассоциировавшийся с примитивизмом. На самом деле, Гаврильчик – художник скорее медиального плана: в основе его авторской оптики лежит сама эта примитивизирующая образность, вкупе с опорой на имперсональную визуальность фотографий в массовых журналах, советской рекламы 1950-х годов, типовой детской иллюстрации и пр. Художник берет эти советские клише (в прямом, печатном и образном смыслах) как данность, без соцартовского педалирования алогизма и бессмыслицы. Далек он и от иносказаний, тропов, то есть притчевой нравоучительности. Так что критической установки здесь нет вовсе. У Гаврильчика советское – не предмет абстрагирующей работы сознания. Все это – предмет проживания. В отличие от соц-артистов и метафизиков притчевого толка, Гаврильчик позиционирует себя не извне советского опыта, а внутри. Он – наследник и продолжатель, проживатель советской жизни, он же – ее изобразитель, он же и потребитель репродуцированных и транслированных в разного рода медиях образов этой жизни. Причем не только визуальных: за изображением, так сказать, за кадром в буквальном смысле, стоит некая языковая практика: мощный нарратив позднесоветского анекдота, матросские байки, кухонные разговоры, приказы, официальные репортажи и пр. В этом плане – по линии использования языковых практик – Гаврильчик сближается с московским концептуализмом. Правда, эти практики у концептуалистов как бы эксплицированы – явлены в виде написанных текстов. У Гаврильчика же – неотформатированный речевой режим: все его персонажи – пенсионеры, пионеры, бабушки, внучки, даже слон в зоопарке – реализуют свое право на прямую речь. Конечно, демократичная и незлобивая позиция Гаврильчика, начисто отрицающая властную, нормализующую функцию нарратива, «подсмотрена» у примитивистов. У них обычно отсутствует критическая установка. Ослаблена у них и функция «организации сюжетом рассказываемых событий»[38]. Собственно, эта ослабленность и визуализирована в наивности и трогательной неартикулированности (неуверенности) плана живописной реализации. Все это компенсируется подразумеваемым акустическим планом: мыслимым или произносимым монологом художника и его персонажей, сопровождающим сам процесс создания вещи.
Питерские митьки, группа, существующая с 1980-х годов, с самого начала презентировала себя, так сказать, многоканально: не только собственно изобразительной продукцией, но и литературой, перформансом, музыкой. Так что литературная составляющая, вполне естественно, окрасила и арт-практику некоторых митьков. Митьки начинали в ситуации глубокого застоя, условия существования они выбрали себе (это был намеренный эскапизм поколения «дворников и сторожей») самые скудные. Однако никакой преемственности, скажем, с «лианозовской школой», с ее иконографией барачной жизни здесь нет. Митьки сразу же мифологизируют свой мир как абсолютно «правильный»: незлобивый, лишенный властных амбиций, реагирующий на социальные вызовы в игровой форме, отзывчивый на все хорошее. Этот мир, конечно, авторизован: митьки склонны к самоописанию, к фиксации своей повседневности. Поход за пивом, объяснения с женой, медитации, дружеские встречи предстают в качестве явлений повышенной серьезности и бытийных контекстов. При этом митьки – и это редкость, так как неофициальные артгруппировки в стране (лианозовцы, метафизики, концептуалисты) работали под знаком групповой инаковости, отчужденности изолированности (внутренний круг, Нома и пр.), – стали синонимом открытости и какого-то стихийного демократизма. Они были озабочены контактностью. Для этого были задействованы приемы персонажности: визуальные типы митьков – посредников и агентов влияния. Они были узнаваемы (но не персонифицированы) не только благодаря тельняшкам, бушлатам или ватникам и ушанкам. Прежде всего благодаря ауре расслабленности, неделовитости, легкости выпадения из любых расписаний, планов, вообще временных потоков. Тем не менее они легко выполняли доверенные им многообразные повествовательные или представительские функции. Одним было поручено представлять движение «в миру»: включаться в повседневную жизнь городских окраин с ее нехитрыми ритуалами социальности: очередями, общением в пивных, отдыхом «на природе». Другие отвечают за «внешние контакты»: с Пушкиным, Лермонтовым, другими культовыми фигурами, сказочными персонажами, разного калибра политическими деятелями и пр. Естественно, общение происходит по митьковским правилам, описанным не без самоиронии: дружелюбие чрезмерно, вплоть до слезы в стакан (вообще, питие – любимейший митьковский сюжет), общение навязчиво. Но «внешние герои», как правило, охотно, «без обид», идут на контакт. Вообще, лозунг движения – «Митьки никого не хотят победить» – можно было бы и продолжить: «Митькам никто не может отказать». «Многоканальность» митьковского мифа, с одной стороны, была весьма эффективна: его трансляция охватывала небывало обширную аудиторию, которая характеризовалась высоким показателем вовлеченности: составляющие ее братушки и сестрички ощущали себя частью творимого мира. С другой стороны, для собственно художников нарастала опасность нивелировки: коллективный миф (и, соответственно, коллективные ожидания аудитории) требовал обобществления иконографии, сюжетики и даже интонации. Потребность оторваться от мифа прежде прочих ощутили В. Тихомиров и В. Шинкарев. Как художники они понимали опасность канона и стремились индивидуализировать собственную поэтику. Как литераторы, создатели идеологии и жизнеописания митьковства – они острее других ощущали засасывающую силу мифа как эманации коллективного сознания. Митьковский миф, как уже говорилось, апроприировал культовые фигуры истории и культуры. При этом апроприация имела два аспекта. С одной стороны – адаптация до уровня персонажей, действующих лиц митьковианы. Это специфический горизонт анекдота, злободневной или исторической байки, обозримый самой неприхотливой аудиторией. С другой стороны – вполне отрефлексированная Митьками (уже с большой буквы, как инстанцией современного художественного мышления) интонация снижения, вполне хармсовская, «высоколобая». Есть еще один миф, с которым митьковиана находится в сложных иерархических отношениях. Это советский кинематограф как явление массовой культуры: «Чапаев», «Место встречи изменить нельзя» и пр. Помнится, все коренные митьки не только сами знали наизусть реплики из «Места встречи…», но и вообще ретранслировали месседж классики масскульта, разумеется, в новой, неидеологизированной аранжировке, адептам митьковского движения. При этом они не могли не задуматься о механизмах мифологизации, вербальных и визуальных, и эта рефлексия так же входила в состав митьковской мифологии. Я описываю конструкцию митьковианы для того, чтобы показать ее «сложносочиненный» характер. В целом можно сказать, что митьковская реальность, очевидно, включала мифологическое слагаемое. Немудрено, что В. Шинкарев, одним из первых ушедший «в отрыв» от «коллективно-митьковского», попробовал разобраться с категориями сюжета и «непереваренной» нарративом реальности. Так была создана серия «Всемирной истории литературы». Это был проект из шестнадцати картин, посвященных произведениям известных и малоизвестных авторов. Картины, поделенные на блоки, сопровождались некими вербальными дополнениями – глоссами. Вполне концептуальный проект, если бы не явно пропедевтические цели, которые ставил перед собой художник: он хотел научить зрителя видеть пластические аспекты бытия литературных сюжетов (правда, пропедевтика здесь не без игровой подоплеки, но это все равно отличалось от практики московских концептуалистов и пост-концептуалистов: те бы «обезвредили» любой позитивно-учительский месседж алогизмом или шизоанализом). Пластическая реализация однотипна: рисунок силуэтного типа, набирающий экспрессивность и живописность в массовых сценах, акцентированная построенность пространства – и картины в целом, и прямоугольников, на которые разбивалась плоскость, сочетание почти минималистской пустотности и заполненности, действия и паузы. Меланхолический повтор приема осмыслен: в сущности, речь идет об одном и том же – поведении сюжета в обстоятельствах различных литературных произведений. Эти литературные обстоятельства позволяют герою-сюжету «показать себя»: свою способность к динамике и покою, событийности и психологизму. Масштаб произведения в данном случае не так важен. Шинкарев проводит мастеркласс на любом материале – от Гомера до автора текста «Елочки». Причем равно серьезно. В «Елочке» сюжет предстает в самых разных своих ипостасях: в качестве первичного жизненного, натурного материала, в прямом, линейно развивающемся повествовании, в нагнетании атмосферы до состояния саспенса.