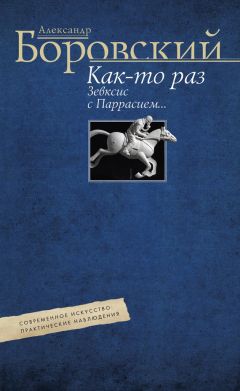Стремление к рассемиотичению, то есть преодолению знаковой герметичности, – отдельный сюжет в истории агитационного фарфора. И собрания Авена, в частности. И художнику, и аудитории революционных и первых послереволюционных лет нужны были новые толкования древней символики в новых политических, социальных и культурных контекстах.
Собственно, за любым политическим символом стояла историческая и социальная конкретика. Но приобщающаяся к политике масса, как правило, видела в революционной символике знак обладания: уже приводилось наблюдение А. Эфроса, подметившего ее стремление «переметить все куски жизни своим клеймом». Однако более «продвинутая» аудитория желала видеть в некоторых символах большее. А именно ресурс синкретичности – политико-морально-религиозный смысл. Одним из таких символов была Башня. В любом Словаре символов Башня раскрывается в десятках значений, иногда противоположных по смыслу – от рабства и казни до очищения и величия, и между ними – десятки толкований.
Собственно, к теме башни в амбивалентности ее значений меня подвигла странная картина, представленная как работа неизвестного художника, с которой мне довелось иметь дело в начале 2000-х годов[80].
…Фантастическая архитектурная композиция: в изумруднозеленых райских кущах высятся монументальные порталы, арки, – ордер, трактованный с какой-то беренсианской утрировкой масштабных соотношений. Все это играет роль стилобата для ввинчивающейся в небо спиралевидной многоярусной башни. Форма башни (отсылающая к зиккуратам, усеченным пирамидам, поставленным друг на друга, в шумерско-ассирийско-вавилонском обиходе символизировавшим «вершины мира») отчетливо вызывает в памяти библейскую легенду о Вавилонской башне. То есть принадлежит архетипу сооружения, изначально предназначенного для мистического, внечеловеческого общения с небом. Согласно библейскому сказанию, гордыня строителей башни, дерзавших взобраться на небо, разгневала Бога, смешавшего их языки, дабы они не могли понимать друг друга, а самих их рассеял по свету. Художник, несомненно, «держал в уме» иконографию башни, суммарно говоря, на тот момент (работа создавалась где-то в конце 1920-х) – библейско-брейгелевско-татлинско-шуховскую. От себя он добавляет некую транслирующую антенну. И вот эту-то конструкцию поражает ангел, материализующийся из барочных облаков. Поражает каким-то электрическим разрядом – да так, что дым клубится, а двое рабочих в красных блузах, по типажу напоминающие персонажей какой-нибудь «Красной панорамы», закрывают от нестерпимо яркого свечения глаза… Ангел разящий и антенна, Вавилонская башня и городской пролетариат – эта поразительная эклектика, в сущности, была в порядке вещей в 1920-е… А вот смысл этой работы… Она буквально обречена на многоплановые толкования… На чьей стороне художник? Богоборчество было в политической моде, но «небо», похоже, побеждает. А языковый срез? Башня – в ее новом изводе – образ воссоздания единого коммунистического языка, подобие лингвистического интернационала? Но почему художник сосредоточен на некоем ударе по башне, причем каком-то революционно-технологичном (прямо какие-то «лучи инженера Гарина» из фантастического романа А. Толстого, написанного в то же примерно время).
Зато и сам художник, как оказалось, стал выдающимся изобретателем: Г. И. Покровский (1901–1979), впоследствии известный физик и военный инженер, автор трудов по физике взрыва и центробежному моделированию в горном деле и строительстве, создатель плотин, генерал и профессор. Одно очевидно – эта работа идет наперекор мифологии всеобщего энтузиазма и тотальной уверенности в светлом будущем.
О татлинской башне (памятник III Интернационалу) с ее сложнейшей, почти эзотерической символикой написано столько, что касаться этой темы здесь не имеет смысла. Однако в сознании сколько-нибудь продвинутого художника 1920–1930-х годов ее образ не может не присутствовать – в каноническом и полемическом смыслах. В соотнесенности с архетипом – иконографией Вавилонской башни. Думаю, такая соотнесенность присутствовала в сознании и у «Н. х.» (неизвестного художника), автора росписи редкой тарелки из собрания Петра Авена (Н. х., «1917–1922»). Его версия архетипа – усеченные объемы в винтообразном, ввинчивающемся в небо движении. Похоже, он в меру сил спорит с Татлиным. У того – сквозные металлические фермы, движение в другую сторону – справа налево. У Н. х. – объемы сплошные, из архаического материала теплой фактуры. Татлинская спираль принципиально необитаема, «стерильна», она – для людей будущего (думаю, технологическая невыполнимость имела и образный подтекст: работаем для будущего). У Н. х. башня строится в городской среде 1920-х – трубы дымят, строители современного пролетарского вида мостят дорогу, рядом – автомобили, жизнь кипит – здесь и сейчас. Повествовательность, даже жанровость, видимо, – знак укорененности в современной жизни… Но почему, почему возвращается тема Вавилонской башни – чем она притягивает неизвестного художника? И почему рядом с рабочими и автомобилями какое-то архаичное сооружение: видимо, горн для обжига кирпичей, из которых возводится башня? Что это – дерзость «безбожника у станка», пренебрегающего вечными истинами библейской притчи: уж наша-то башня, которую мы возводим в честь новой жизни, в отличие от Вавилонской, переживет века? Вторая попытка «достучаться до небес»? Или, наоборот, в выборе архаичного материала – намек на хрупкость всей затеи? Здесь все имеет символический смысл, во многом, к сожалению, невосстановимый.
А вот Е. Трипольская в своих шахматах «Индустрия и сельское хозяйство. 1933–1934» (Дмитровский фарфоровый завод) «снижает» интонацию. Вещь эта перенасыщена новой символикой, часто – производной, наивной, выведенной из отчетов «с полей» или из учебников. Но и старая идет в дело. Шахматная ладья (тура, башня, осадная или защитная) имеет древние коннотации силы, и автор пускает их в дело: темная сплошная полива заставляет парные башни-ладьи (со стороны черных) выглядеть внушительно-опасными. Снижение интонации, однако, достигается за счет «белых». Прямо на их башнях-ладьях рельефно выведено опрощающе утилитарное – силос. Кстати, и здесь, в шахматной серии, в фигурах слонов, сложносочиненных по пластике, появляется тема татлинской башни-спирали. По навершию башни шла надпись «Сто», по боковой поверхности – знак «%», видимо, речь шла о стопроцентной коллективизации. Почему именно башню-спираль выбрала Трипольская в качестве носителя колхозного «символа веры»? Сама тема спирали здесь загадочно не мотивирована, а может, и не отрефлексирована.
Завершает «башенный сюжет» собрания Авена работа другого Н. х., дающая в росписи высокого бокала новую версию архетипа – упрощенное графическое воспроизведение проекта Дворца Советов Б. Иофана, В. Щуко, В. Гельфрейха, декорированное по нижней трети знаменами. По сути дела, сам проект был плодом коллективного разума партии – недаром его главные элементы (например, увенчание Дворца Советов монументальной скульптурой Ленина) санкционировались на уровне постановлений ЦК. Эта многометровая фигура Ленина, завершающая гигантскую постройку, в реальной городской ситуации едва ли различимая человеческим зрением, носила, несомненно, тотемный характер (уже само расположение Дворца было выбрано ритуально – на месте храма Христа Спасителя). Ритуальной была и экспансия так и не реализованного вживе проекта вовне, в реальную среду: символически замещающие его агенты – в виде макетов, моделей, живописных изображений, и, как мы видим, изображений на фарфоре, – внедрялись в реальную, несимволическую жизнь. Компенсаторная функция (о которой мы уже писали выше) совмещалась с ритуальной. Что ж, фарфор на исходе 1930-х поучаствовал в той актуализации архаического сознания, для которой стало обязательным отождествление символов и/или изображений персонификаторов власти с самой властью.
Отдельным сюжетом в собрании Петра Авена видится мне в четырех тарелках М. Адамовича. Он пришел на завод уже в конце 1918-го: отучившийся в Строгановском училище, побывавший в Италии, имевший опыт росписи банковских и церковных зданий. Он проявил себя как мастер агитационного фарфора и в этом качестве представлен в коллекции шире, создал несколько архитектурных образов мирискуснического пантеистического настроя, приобщил себя к жанру руин, добившись почти гюбер-роберовской изысканности. Все это было странно в условиях производства, заточенного на пропагандистские усилия. Но не неожиданно: в конце концов, и гипер-эстетизм Добужинского нашел свое место в арт-продукции завода. Затем, видимо, не без влияния Чехонина, Адамович создал несколько вполне агитационных росписей, не слишком заботясь об индивидуальности манеры, зато усвоив прагматику «атакующего стиля». Несколько росписей в красно-кирпичной (они-то и присутствуют в собрании Петра Авена) и зеленой гаммах выделяются из всего остального, созданного в фарфоре Адамовичем. Это очень цельная серия – и по колориту, и по сюжетике, и по характеру изобразительности. Но главное, что объединяет работы, – какой-то особый режим протекания времени. Он удивительно замедлен. Тарелки расписаны сценами военной тематики, но практически вне действия: неспешно беседуют солдаты, другая группа военных в шинелях медленно и как-то нехотя отбывает в путь, замер всадник… Какая-то расслабленность традиционных сценок из бивуачной жизни – однако нет положенной этому типу изображений жанровости и бытовой конкретики. В трех росписях изображено странное сооружение – пиранезиевского размаха конструкция: то ли элеватор, то ли эллинг. Солдатики с мешками и в обмотках выглядят представителями какой-то другой цивилизации рядом с этим образом техно. Сооружение взорвано, опрокинуто на землю. Адамович и ранее писал руины, оставаясь в знаковой и эмоциональной традиции «Мира искусства»: преклонения перед ушедшей культурой и своего рода «примерки» ее, патетической, ироничной, а в его случае и драматичной, к обстоятельствам текущего дня. Здесь руина техно-происхождения, солдаты, явно крестьянского типажа, демонстрируют полное равнодушие к уткнувшемуся в песок артефакту. Сегодняшний зритель, воспитанный на киножанре постапокалипсиса, может увидеть здесь тему возрождения простейших форм жизни социума после гибели цивилизации.