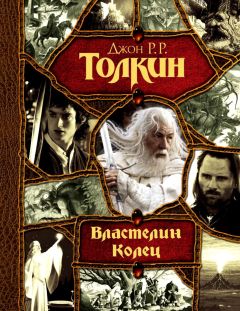«небеса возвещают славу Божию» (псалом 19-й) и что ученый, исследующий природу, так же как и автор «вторичного мира», сотрудничают, чтобы пролить свет на красоту Творения, на удивительную сложность его организации и эволюцию во времени.
Эти настроения прослеживаются в письме от ноября 1969 года, где Толкин благодарит Эми Рональд за подаренную книгу о дикой флоре Капской провинции, которая, по его словам, открывает значительные перспективы в области палеоботаники. Он проводит сравнение с цветами ранних эпох своего Средиземья, эланором и нифредилью, и признается в увлечении книгами, где описаны растения, «и не столько редкие, необычные или вовсе чужеродные экземпляры, сколько вариации и изменения в цветах, которые со всей очевидностью родственны тем, что я знаю, – но не те же самые. Они пробуждают во мне видения родства и происхождения из глубины веков, а также и мысли о таинстве узора/замысла как чего-то, отличного от его индивидуального воплощения и все-таки узнаваемого».
Фэнтези, магия, научная фантастика
Образование Толкина – в основном литературное, как это было принято в его время, – также имело значение. В его школьных воспоминаниях всегда присутствовали латынь, греческий или другие языки и литература. Что касается естественно-научной культуры, она приобреталась в основном из научно-популярных трудов: представления Толкина были далеки от процесса изучения математических знаков и формул. Знание природы для него могло быть выражено теми же языками, что и прочий человеческий опыт.
Возможно, это одна из причин, почему, по мнению Толкина, научный подход к объекту никоим образом не подразумевал использования моделей, вдохновленных так называемыми трудными дисциплинами, или отказа от субъективности. Ему было больно наблюдать необратимое превращение знаний о языках, литературе и мифах в «гуманитарные науки» с их подчинением категориям структурализма ради получения сертификата строгости и объективности. В эссе «О волшебных сказках» он посвящает целый раздел («Истоки») отмежеванию от фольклористов и антропологов, стремящихся основать науку о сказках, давая им следующую характеристику: «Люди, использующие сказки не по назначению, а как источник информации, из которого они черпают сведения об интересующих их вещах» [13]. Эти исследователи извлекают из повествовательного материала мифемы, «мотивы», между которыми обнаруживают сходства и противоположности; они используют нарратив как карьер, руду из которого затем безупречно классифицируют, промаркируют и используют для различных подлинно научных целей. Толкин признает, что «само по себе такое занятие вполне оправдано, но невежественность и забывание о природе сказки как таковой подчас приводили исследователей к странным выводам» [14] – они не осознавали, что имеют дело с литературными текстами, каждый из которых уникален и должен оцениваться как единое целое с учетом всех его элементов.
Сам Толкин считал, что его ценность как лингвиста во многом обусловлена чувствительностью к эстетическим и музыкальным особенностям языков и способностью прислушиваться к личной глубокой интуиции. В 1955 году он послал готовившему о нем передачу поэту У. Х. Одену своего рода эссе с описанием основных черт своего характера, в котором упоминал «неизбежное, хотя и обусловленное внешними обстоятельствами, развитие заложенного при рождении. Оно всегда было со мною: чуткость к лингвистическим моделям, которые воздействуют на мои чувства, подобно цвету или музыке; страстная любовь ко всему растущему; и глубокий отклик на легенды (за отсутствием лучшего слова), в которых есть то, что я назвал бы северо-западным темпераментом и температурой» [15].
Толкин также настороженно относился к (благонамеренным) попыткам перевести чудеса его Средиземья в научные термины. Несомненно, он не одобрил бы безоговорочно все страницы уже цитированной работы Генри Джи, особенно главу 17, основанную на афоризме писателя-фантаста Артура Кларка, что «любая достаточно развитая технология неотличима от магии» [16]. Таким образом, ничто не помешало бы ему увидеть во Вратах Мории, в свете Лотлориена или в сосуде, содержащем свет звезды Эарендиля, который Галадриэль доверила Фродо, эффекты технологий будущего.
Действительно, Толкин был хорошо знаком с древним понятием «природной магии», которое заключается в понимании природных процессов, чтобы воспроизвести их экспериментально и, возможно, ускорить и усилить по мере необходимости, дабы создать то, что наивные люди считают чудесным [17].
Некоторых из эльфов и гномов Толкина, а также Радагаста с его птицами и Гэндальфа с фейерверками можно рассматривать как «природных магов». Но не следует заходить слишком далеко.
В эссе «О волшебных сказках» Толкин отличает «сказку» от «волшебства» именно для того, чтобы ограничить подобные интерпретации:
«Волшебное» можно перевести ближе всего как «Волшебство», «Магия», но это не магия особого настроения и особой власти, полярно противоположная вульгарному изобретательству трудолюбивого ученого мага [18].
В июне 1958 года Толкин представил подробный (и разгромный) критический обзор сценария Мортона Грейди Циммермана, написанного по мотивам «Властелина Колец». Пункт 22 касается лембаса (легкого и очень сытного восстанавливающего силы хлеба, который эльфы пекут для путешественников). Лембас, «дорожные хлебцы», назван «пищевым концентратом». Этот текст можно найти в его письмах. Суть претензии обоснована предельно четко:
Как я уже давал понять, я не выношу, когда мое произведение приближают к стилю и характеру «contes des fées», или французских волшебных сказочек. В равной степени я терпеть не могу любые поползновения в сторону «наукообразия», примером которого является данное выражение. И та и другая стилистика моей истории чужды. Мы не Луну осваиваем и не какую-либо другую, еще более неправдоподобную область. Никакой лабораторный анализ не выявил бы у лембаса химических свойств, благодаря которым он превосходит любые другие пшеничные хлебцы [19].
Толкин строго различал сказку и научную фантастику. Как читатель, он очень любил и то и другое, даже отдавая предпочтение фантастике, так как она вдохновляла на создание более оригинальных и творческих романов. В частности, он был заядлым читателем Айзека Азимова и искренним, хотя и критически настроенным поклонником «Путешествия на Арктур» Дэвида Линдсея и «Космической трилогии» К. С. Льюиса [20]. Но как автор он чувствовал себя комфортно только в сказках. В 1936 году, как следует из письма от февраля 1967 года, Льюис и Толкин решили параллельно писать романы, отвечающие тому, что им действительно нравилось, и чего они не смогли найти в современной литературе: Льюис должен был попробовать описать космические путешествия (что он и сделал в своей трилогии), а Толкин – путешествия во времени. Толкин начал писать «Утраченный путь», но вскоре забросил его.
В 1945–1946 годах он предпринял вторую попытку на схожую тему (возвращение двух современных персонажей к очень древней катастрофе, аналогичной затоплению Атлантиды). «Записки клуба “Мнение”» продвинулись немного дальше, но в итоге столкнулись с тем же препятствием, что и «Утраченный путь»: как только речь зашла о