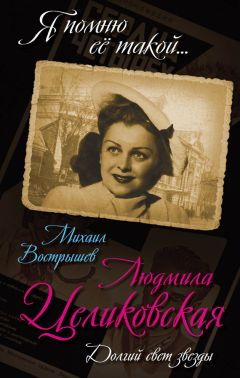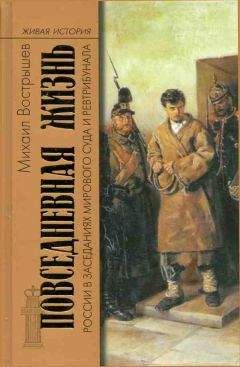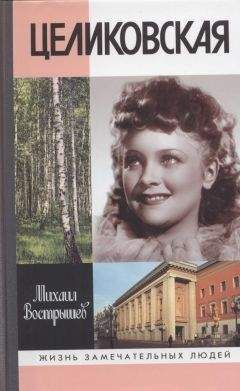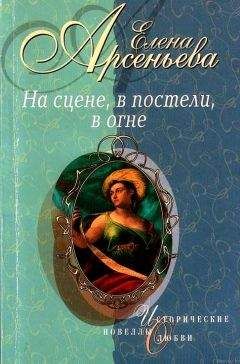Другой черновик письма, уже чисто личного, адресован напрямую М. А. Ульянову.
«Я вспоминаю, как полтора года назад на собраниях и встрече нашей в Мин. культуры РСФСР, когда обсуждали положение в театре, Вы, М. А., сказали: «А по мне, так уж лучше оглоблей» или «Я за то, чтобы оглоблей». И еще кто-то сказал довольно веско: «Вам, Евг. Рубенович, дается последний шанс».
Позволю себе не согласиться с этими утверждениями. Посмотрим, что же происходило на самом деле в нашем театре. С мая прошлого года, когда Е. Р. Симонов был практически отстранен от решающего голоса, когда ему в виде милости и шанса разрешили дорепетировать «Мал. трагедии», тут мы все ощутили всю силу оглобли. Одна за другой посыпались ругательные рецензии. Охаивалось все, и плохое, и хорошее, даже те спектакли, которые раньше хвалила критика, под острое перо попадали даже наши прославленные актеры, которые играли в симоновских спектаклях. Во всем этом была явная тенденциозность, направленность, я бы назвала это акцией.
Тут уж, можно сказать, оглобля была энергично целенаправлена только в один адрес. До шанса ли тут было? Тут впору уцелеть, не угодить на больничную койку. Но существует великая логика сопротивления и справедливости. Она существует в каждом человеке. Много людей в Москве запротестовали и забеспокоились. Мне лично звонили актеры других театров, архитекторы, врачи – словом, люди, любящие наш театр. Они все в один голос осуждали явную тенденциозность этих статей. Меня все время спрашивали: кому это нужно? Почему так стараются очернить театр? Потому что каждому, даже ежу, понятно, что это шло изнутри театра и что это все очень было похоже на борьбу за власть.
Ну и что же? Казалось бы, все хорошо. Люди, которые принимали участие в рьяной критике театра, – мы их все знаем, они очень горячо, споро и дружно осуждали Симонова и его спектакли на собраниях (двух, которые были в мае), – затем забрали почту и телеграф, утвердились в худ. совете и партбюро, и месткоме. Дружно, единогласно, по-тихому проголосовали на партбюро за снятие Симонова с должности, вошли в правительство (я имею в виду Мин. культуры РСФСР) с решением или предложением о назначении М. А. Ульянова на пост худрука. И вот тут оказалось, что вся энергия ушла на выживание Симонова из театра (один из действ. членов месткома так и сказал: «Я жизнь положу, чтобы Симонова не было в театре»).
Все это было сделано без ведома и участия Симонова, факт сам по себе вопиющий, барский, пренебрежительный по отношению к коллективу. И что же, остальные Ваши коллеги просто шушера, просто пешки на шахматной доске, на которой Ульянов и Лановой ведут игру? И вот тут-то и родилось наше письмо. Родилось оно стихийно, без артподготовки. Написано оно было людьми беспартийными, не вхожими, так сказать, в сливки общества, управляющего театром.
Очевидно, оно было воспринято партбюро как что-то похожее на надоедливую осеннюю муху, которую можно и не заметить, и проигнорировать. Только так я расцениваю тот факт, что прошло более двух месяцев, а ни секр. парторг. Федоров, никто из партбюро ни словом не обмолвился о нашем письме. Как будто его вовсе не существовало. Более того, нажим со стороны партбюро еще усилился и на отдельных наших актеров, и на вышестоящие организации.
Мне хочется сказать здесь нашим товарищам из партбюро: вам надо учиться демократии, учиться терпимости к другим мнениям, умению выслушивать, учиться равенству в споре. Мне думается, что парторганизация нашего театра должна серьезно обсудить свои неправильные действия и сделать серьезные выводы. И худ. совет, и партбюро последние полтора года, по существу, занимались только одним: отбрасыванием в сторону того, о чем в первую очередь они должны были бы радеть, – репертуара, занятости актеров. Они забыли, что в театре всегда интересен только спектакль как искусство актера и режиссера, остальное вторично. А если на вторичное тратится вся энергия, значит, она тратится впустую.
Теперь я хочу сказать вот что. Ни один человек не может сказать, что на нем нет вины. Мы все виноваты в тех неудачах, которые время от времени постигают любой театр, и наш в том числе. Подчеркиваю – все без исключения. Это моя принципиальная точка зрения. Если вы выходите на сцену, пользуясь услугами гримеров, костюмеров, осветителей и раб. сцены, если вы произносите текст, исправно получаете зарплату, значит, вы причастны ко всему, что происходит. Никто не может сказать, что он чист, что он стоял в стороне. Более того, мне кажется, что сознание своей безупречности, непогрешимости рождает другое чувство – мщения, расплаты, желания расквитаться, судить других, а не себя. Демократию у нас стали понимать как право надавать пощечин всем, кто не нравится. Но обличение – дело ответственное и серьезное, правом судить нужно пользоваться осторожно, потому что разоблачение и разоблачительство, так же как сведение счетов, – это кампания и противоречит такому прекрасному понятию, как «демократия»…
Наша литературная часть находится в эмбриональном состоянии и не справляется со своей основной задачей – искать, открывать авторов, находить интересные пьесы либо произведения, достойные быть поставленными на сцене нашего театра. Портфель театра пуст. За полтора года он пополнился, может, одной-двумя пьесами, да и то из них одна вовсе не пьеса, а роман «Дети Арбата». Произведение яркое, интересное, но пьесы нет, есть «рыба», по которой актеры будут этюдно находить действие спектакля. Я усматриваю это как результат рьяной деятельности партбюро и худ. совета, направленной совсем в другое русло, далекое от репертуара театра.
Мы должны сделать из зла добро, потому что больше его не из чего сделать. Личные амбиции должны уйти на задний план. Тот, кто хочет, – делает. Тот, кто не хочет, – ищет причины.
Мне бы хотелось поспорить еще о многом: о совести, о цене одного дня, о свободе и радости нашего труда, о принадлежности к homo sapiens. Где-то мы непременно должны совпасть, но для этого надо научиться слушать друг друга. Не надо перестройку заменять переменкой. И надо помнить, что есть еще суд времени. Нельзя считать последним шансом Симонова тот страшный год, в котором его били лежачего, и нельзя в искусстве действовать оглоблей.
Я против раскола – он никогда не был правильным и плодотворным. Я против снятия Симонова с худрука нашего театра. Еще не приготовлен достойный режиссер для столь мощного коллектива, как Театр Вахтангова. Оглянитесь кругом – сколько театров остались в результате распрей ли или нераспрей без худруков. Хорошо это? Нет. Также неправильно, как было у нас, когда в результате распри ушел Б. Е. Захава. Неправильно, потому что не были сыграны какие-то роли и не были поставлены, может быть, хорошие спектакли.
Мне хотелось бы закончить, вспомнив слова Роб. Стуруа, кот. я недавно где-то прочла: «Иногда мне кажется, что несостоявшиеся спектакли – это специально задуманная неудача, подсознательно направленная на самоуничижение, для того чтобы остановиться, одуматься, прекратить заниматься суетой».
Гневно, без всякого подлаживания под бюрократический стиль обращается Целиковская к своему новоявленному начальнику. Но пишет она не для позерства, не для того, чтобы показать, какая она храбрая и справедливая. Конец письма – это призыв к сотрудничеству, конкретные предложения выхода из тупиковой ситуации. Но, к сожалению, поезд кадровых перетрясок уже мчался на всех парах, и пронизанные болью за театр слова прославленной актрисы не были услышаны. И дело здесь не в М. А. Ульянове, а в том, что новый худсовет уже распределил роли в только что принятой к постановке пьесе Михаила Шатрова между своими членами, своими женами и друзьями. Кто же теперь откажется от лакомого кусочка, хоть и во имя искусства?..
Были ли серьезные последствия для самой Целиковской после столь ревностной защиты опального Е. Р. Симонова? Конечно, для нее это не прошло бесследно, хотя из театра не выгнали. Но и больших ролей не предлагали. Сама же Людмила Васильевна никогда не выставляла напоказ обид, нанесенных ей как в личной жизни, так и в театре. За год до смерти она давала интервью корреспонденту газеты «Совершенно секретно». Ее спросили, почему она разошлась с Юрием Любимовым. Другая вылила бы на бывшего мужа ушат грязи, но не Целиковская.
«– Все умирает, даже камни. И чувства умирают. Чтобы жить с гением, нужно быть душечкой. Я же – совсем наоборот, упрямая, со своими взглядами. Мы стали друг друга немножко раздражать. Наверное, нужно было все время Юрия Петровича хвалить, а я хвалить не умею. В моей семье вообще принято довольно скептическое отношение друг к другу. Например, когда дети смотрят мои фильмы, они всегда подшучивают: «Ну, мать, ты даешь! Опять «тю-тю-тю, сю-сю-сю!» Для нас подобные отношения вполне естественны. Но не для Любимова. Он однажды сказал: «Когда мы разойдемся, у тебя в доме будет праздник». Ну, в общем-то, так и получилось: праздник продолжается до сих пор. Тем не менее с Юрием Петровичем мы жили хорошо.