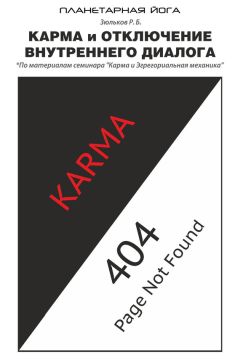Внешнее ролевое существование имеет глубинную связь с поверхностным своенравием внешнего человека, о котором писал Вяч. Иванов. Ролевое существование усиливает позиции внешнего человека и даже служит его оправданием. Не случайно епископ Эдвард произносит фразу, которая, по мысли Бергмана, должна его разоблачить: «Я обыкновенный человек, и у меня много недостатков, но я облечен могущественным саном. Сан всегда сильнее того, кто его носит. Человек, живущий Саном, становится рабом Сана. Он не имеет права на собственные мнения. Он живет только для своих сограждан и лишь в этом подчинении обретает жизнь»[574]. Эдвард, сам того не желая, пишет выразительный портрет своего внешнего человека. Внешний Эдвард предстает во всей своей красе. Но в конце монолога епископ словно бы спохватывается, вспомнив о жертвенности, как о сути того учения, которое он несет согражданам. Однако поздно – Сан, маска, внешний человек приросли к Эдварду и стали определять суть его поступков. Драма епископа состоит в том, что он «лепит» своего внутреннего человека, своего Христа, лепит себя, как Христа, из той глины, которая предназначена для человека внешнего, пригвожденного к ролевому существованию, того человека, которого Гамлет называет «квинтэссенцией праха»[575]. Эдвард перепутал глины, субстанции. Сердце епископа, в которое любовь была водворена этикой рационализма, не распознало смертоносный сатанинский гриб, из которого Эдвард готовил для паствы свои отвары. «Гриб» мистическим образом проник и в его кровь, дважды покарав лжепастыря. Уничтожив духовно, изнутри победой Эмили и Александра, а по сути, самой жизни. И уничтожив физически – снаружи: снотворное, которое принял Эдвард, сделало неотвратимой его гибель.
Искренность, если прибегнуть к библейской метафоре, – завет с небом, откровенность – договор с землей. Следует сказать об усилии искренности. Искренность – это прежде всего высокий градус духовной жизни, опирающейся не на «внешний культ», а на «сердечную веру», как выразился бы И. Киреевский. «Практически все главные герои Достоевского, – замечает И. Евлампиев, – проходят своеобразную проверку на искренность и глубину через их отношение к личности Иисуса»[576]. С ослаблением религиозного импульса в личности художника художник утрачивает незримую Реальность и замолкает. Откровенность же, которая есть ноша души, куда как словоохотливей. Актриса Фоглер из бергмановской «Персоны» замолкает, потому что искренность, как некий дар, ей не отпущена, а откровенность, как некая повинность, ей опостылела. Иконописец Рублев из фильма Тарковского «Андрей Рублев» дает обет молчания, потому что, зарубив топором насильника, в одночасье растерял весь запас и опыт своей искренности[577]. Рублев, которого играет Анатолий Солоницын, невольно нарушил завет с небом и, не желая того, заключил договор с землей. Вяч. Иванов, отвечая своему оппоненту М. Гершензону, в 1920-м году писал: «Бога знаете и хотите вы не в небе зримом и не в небесах незримых человека, но в огненной душе живущего, в дыхании его жизни, в пульсации его жил. Из этой мысли глядит на нас, повторяю, седая старина, не менее древняя, чем иероглифы Египта»[578]. Так же и Рублев, став свидетелем вопиющей несправедливости, восхотел Бога в огненной душе своей, в пульсации своих жил, а получив то, что хотел, понял, что утратил незримые небеса. Вероятно, так же восхотел Бога в огненной душе своей и учитель Сталкера Дикообраз, переступив порог «комнаты желаний», а получил вместо незримых небес мешок денег. Загадку самоубийства Дикообраза, как мы помним, разгадывает Писатель, в роли которого Анатолий Солоницын не менее убедителен, чем в роли иконописца. В обеих картинах Солоницын играет святых, но святых разных эпох.
Впрочем, существует и другой взгляд на образ Писателя. Писатель, по мнению А. Меня, равно как и Профессор, «олицетворяют бездуховную цивилизацию с ее приземленностью и прагматизмом»[579]. Однако здесь мы позволим себе не согласиться с отцом Александром Менем. Ведь Писатель в отличие от Профессора движется к истоку своей личности и почти достигает его. После того как Писатель проходит все испытания, Сталкер ясно формулирует превосходство Писателя над двумя своими спутниками: «Еще там, под гайкой, Зона пропустила вас, и стало ясно: уж если кому и суждено пройти мясорубку, то это вам, а уж мы – за вами»[580].
В завершение нашей работы мы бы хотели подвергнуть разбору фильм Андрея Тарковского «Сталкер» (1979). «Сталкер» не имеет прямого отношения к мифу лицедейства как особо выделенной теме. В нем нет и присущей фильму о фильме эстетизации жизни «в кадре» и «за кадром». Однако эта картина, подобно шекспировскому Гамлету, явилась для нас кристаллом, способным преломить все или почти все лучи темы «реальность и игра» в ее внутреннем раскрытии.
Пожалуй, отважней всех в «бездну», именуемую человеческим сердцем, заглянул Достоевский. «Источник и причина несовершенства и зла коренится в том же самом измерении человеческого бытия, где пребывает его божественная сущность, откуда исходит неустанное стремление к совершенству и добру, – пишет И. Евлампиев. – В конечном счете этот источник наша – свобода, необъяснимая, неподвластная ничему, иррациональная. Именно открытие глубокой иррациональной диалектики человеческой души, сочетающей в себе (часто в одном и том же чувстве и помысле) добро и зло, своеволие и рабство, любовь и ненависть, составляет главную заслугу Достоевского»[581].
Иррациональная диалектика человеческой души в полной мере относится и к сердцу, этому «световому центру души»[582]. «Комната желаний» из фильма «Сталкер» есть, на наш взгляд, грандиозная метафора противоречивого, окутанного непостижимой тайной человеческого сердца.
Личность едина, но она же и не равна самой себе. Личность больше самой себя. Для нее жизненно важно быть охваченной «тревогой глубины», «тревогой значительности». Личность есть драматический, в несколько переходов путь к своему собственному истоку. На пути этом ее ждут четыре препятствия, или ловушки: личина, за которой личность прячется; надевающий маску внешний человек; снимающий маску внешний человек; надевающий маску внутренний человек.
Не подобные ли препятствия встают в «Зоне» перед Писателем?
Мы вовсе не настаиваем на таком прочтении ловушек «Зоны». Мы лишь предлагаем взглянуть на кульминационные точки восхождения личности к своему истоку через испытания, которым подвергаются три путешественника. Бóльшая часть испытаний, как мы помним, ложится на плечи Писателя. Всякое истинное произведение искусства является бездонным колодцем символов, а потому содержит в себе множество трактовок, вовсе не все из которых обязательны. Но при этом они вполне возможны.
Сначала Писатель пытается спрямить путь к «комнате желаний» как к некоему истоку своей личности. Но демонстрирует он, замечает И. Евлампиев, «тот тупик, в который ведет человека последовательное исповедание традиционной идеологии “покорения” мира. Модный литератор, Писатель добился всего, чего только может пожелать человек в мире конкуренции, в мире, где главное – борьба за материальное и духовное превосходство». Однако «под маской цинизма в Писателе скрыта почти детская непосредственность и искренность, скрыты те самые “слабость” и “гибкость”, которым пытается научить своих попутчиков Сталкер»[583]. Маска цинизма, благодаря которой, вероятно, Писатель и стал модным, и есть юнгианская Персона, компромисс индивида с обществом. Маска цинизма и есть проявление инстинкта театральности – та личина, за которую, по выражению Бердяева, прячется личность, чтобы не быть растерзанной миром. Спрямить путь герою не удается, но расправы над самонадеянным интеллектуалом не последовало[584]. Писатель «предупрежден» «Зоной», а не «наказан», потому что он успевает вовремя внутренне опомниться. Не «Зона», а он сам снимает с себя маску «модного литератора».
Второе испытание – «сухой тоннель», в который Писатель попадает вместе со Сталкером. С ними нет поборника прогресса Профессора, строящего, одним своим упованием на технический разум, рай на Земле. А как же иначе расценить его желание уничтожить зло механически? «Вы представляете, – говорит он, – что будет, когда в эту самую комнату поверят все и когда они все кинутся сюда. А ведь это – вопрос времени: не сегодня, так завтра, и не десятки, а тысячи, все эти несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, фюреры всех мастей, этакие благодетели рода человеческого, и не за деньги, не за вдохновением, а мир переделывать… Да никто из сталкеров и не знает, с чем сюда приходят и с чем отсюда уходят те, которых вы ведете. А количество немотивированных преступлений растет – не ваша ли это работа? А военные перевороты, а мафия в правительствах – не ваши ли это клиенты?»[585]. Но поднять на воздух «комнату желаний», вырвать с корнем иррациональное, а заодно и сверхрациональное из человеческой природы как раз-таки мечта всех Великих Инквизиторов. То, что Юнг называет Тенью – негативным, низменным, животным, примитивным, не устранить и даже не «напугать» взрывом. Беспрестанно спорящий со жрецом науки Писатель в глубине души разделяет многие позиции ученого-утописта. Однако «сухой тоннель», который бы ни за что не пропустил Профессора, считающего, что законы механики могут быть применимы к духовной реальности, пролагает пропасть между Писателем и Профессором. И тот же «сухой тоннель» наводит мост между Писателем и Сталкером. Так Писатель снимает маску со своего внешнего человека. Этого обузданного «этикой прогресса», туго спеленатого воспитателями человечества и пребывающего в блаженном неведении младенца.