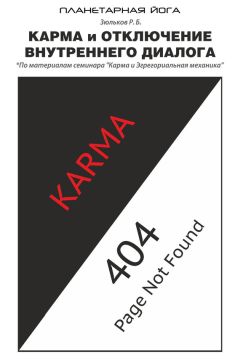В одном из своих последних развернутых интервью Андрей Арсеньевич говорил о том, что хотел бы снять продолжение «Сталкера» и сетовал на то, что это было бы возможно только на Родине. «Сталкер должен был перерождаться… – открыл свой замысел режиссер. – Он не верит, что люди сами могут идти к этому счастью, к счастью собственного преображения и изменения. И он начинает применять силу. Он начинает их насильно, обманом уводить в Зону для того, чтобы они пришли к лучшей жизни, то есть превращается в фашиста. Когда уже цель якобы оправдывает средства. И человек перерождается. Вот этим я хотел кончить картину. И чтобы он даже кровь пролил ради того, чтобы настоять на своем. Это уже идея Великого Инквизитора. Те, кто берет грех на себя, грех во имя…»[586]. Как мы видим, не устоял перед соблазном утопизма не только Профессор, но и сам Сталкер.
Третье испытание – «мясорубка». Покажется ли под маской, которую снимает внешний человек Писателя, лицо, или вместо лица даст о себе знать выпущенный на волю Зверь? Заметим, что действие этой сцены разворачивается внутри некоего гигантского мертвого механизма, символизирующего собою руины Земного Царства или Града Каина. Ловушка называется «мясорубка», потому что она со всей определенностью символа высшего порядка ставит перед человеком вопрос, в кого он, после того как «расседлан» и «разнуздан», отваживается расти – в Бога или в Зверя?[587] «Его согласие идти в длинный темный тоннель, в «мясорубку», – это согласие пожертвовать собой, согласие на ту роль, которую ему предназначил Сталкер, – роль последователя и преемника Иисуса Христа»[588], – пишет И. Евлампиев, пожалуй самый глубокий исследователь художественной философии режиссера Тарковского. Так изжит Писателем и ненасытный зверь. Лютый сильный зверь – именно то искушение, перед которым встала Россия девяностых, глотнувшая уже не оттепельного, а знойного воздуха свободы. Черная птица, выпорхнувшая едва ли не из сердца самого Писателя, летит над песчаными барханами. Пройдя «мясорубку», он по-прежнему ворчит и причитает, но он уже изменился. «Обругает какая-нибудь сволочь – рана; другая сволочь похвалит – еще рана. Душу выложишь, сердце свое выложишь – сожрут и душу и сердце…»[589]. Заметим, что «Зона» не «сожрала» сердце Писателя именно потому, что он его «выложил».
Четвертая, кульминационная точка восхождения личности к своему истоку – «комната желаний». И Писатель, и Сталкер, и Профессор останавливаются на ее пороге, на пороге своих несовершенных, ложных, а может быть, даже и не своих желаний. Но как это проверить? Нужно войти в комнату, открыть Богу хотя и свое, но человеку, оказывается, и не принадлежащее сердце. Пробуждение внутреннего человека, превозмогание «ленивого дремлюка», глубоко засевшего в нас, происходит не в обыденном мире, а в «Зоне», на пороге «комнаты желаний». Замерший в преддверии таинственной комнаты внутренний человек потому и снимает маску, что открывает Богу свое сердце, но открывает бескорыстно, не требуя ничего взамен. Не требуя исполнения желаний. Снова невольно приходят на память слова Савелия Туберозова: «…и возблагодарил Бога, тако устроившего яко же есть». И тут в тишине, на пороге комнаты возникает странный вопрос, ради которого и стоило проделать героям столь долгий путь к истоку своей личности. А не является ли и наш внутренний человек некой маской, которую мы, бескомпромиссные путешественники, должны в итоге, несмотря на жуткий риск, все же снять, как мы снимали все остальные наши маски? Может быть, лицо, тайна лица – это тоже маска? Ответ на этот вопрос заключен в нашем сердце. Ответ на этот вопрос и есть реальность. С этого ответа реальность и начинается.
Как отвечают на этот вопрос три путешественника, мы помним. Внутренний человек не может быть маской. Тайна бытия, какой является лицо, не может быть маской. Маской было бы очередное искушение страстного сердца, то, что ткется в глубинах подсознания без нашего ведома. К тому же через это искушение Писатель уже проходил, когда в «мясорубке» снял маску со своего внешнего человека. Поразительно, но именно «мясорубка» явилась для Писателя комнатой исполнения сокровенных желаний. И по лабиринтам этой комнаты он прошел не рыщущим зверем, а последователем и преемником Христа, Его учеником. Не корыстное, голодное, вожделеющее «Я» он в себе искал, ощупью двигаясь по виткам «мясорубки», а «я», которому уже не на что надеяться, «слабое» и «гибкое», соединенное с Богом. Только пройдя до конца путем «ученичества», путем внутреннего человека, можно выйти к истоку своей личности.
«Мистическая глубина жизни иногда близко подходит к житейской поверхности», – проницательно замечает Вл. Соловьев. Именно там, на их стыке, рубеже, и зачинается внутренний человек, готовый, подобно вулкану, прорваться наружу. Внутренний человек до времени блуждает в недрах вещей, на первый взгляд абсолютно понятных, заурядных, не окруженных ореолом в те минуты нашей жизни, из которых она, присягнувшая поверхности, стремится состоять. Но, если час трагедии, как час твоего личного предназначения, пробит, внутренний человек восстает над обыденностью. «Мистическая глубина жизни» уже загадала ему свою загадку, дала задание, всегда превышающее его силы, по крайней мере те, которыми распоряжается только он, и открыла ему путь к силе и воле, которые тайно и мучительно выразятся через него, либо верша его рукой Высшее Правосудие – таков путь Гамлета, либо осуществляя через него Высшее Предназначение – таков, согласно Андрею Тарковскому, крестный путь художника. Художник фильма «Сталкер» это, конечно же, Писатель. В образе бергмановского Александра Гамлет и художник слились воедино, но не внешне, а внутренне. Высшее Правосудие свершилось, а Высшее Предназначение осуществилось, не дублируя друг друга, в одном лице, в лице Александра – Гамлете иного человеческого возраста и иной исторической эпохи.
Можно изъявить желание быть откровенным, но нельзя по своему желанию быть искренним. Искренность – дар Божий, над которым человек, тем не менее, обязан трудиться, как и над всяким даром, полученным свыше. Работают над своей искренностью и фигляр Юф из «Седьмой печати», и актриса Паша Строгонова из «Начала», и режиссер Гвидо из «Восьми с половиной», и герой актера Даниэля Ольбрыхского Даниэль из картины Вайды, и лицедеи «Американской ночи», и фокусник Фоглер, поддерживаемый Мандой, и театральная труппа, в которую возвращается Эмили Экдаль, и актриса Юлия Мартынова, причем уже не на сцене, а в жизни. Именно так, работать над своей искренностью, учиться ей у всего, что тебя совершенно не случайно окружает, с какой-то, пока скрытой целью соседствует с тобой. Дерево, улица, облако – такие же уроки искренности, как и бесконечно любимый человек, как человек, тебе незнакомый, но вдруг тайно осветивший жизнь движением души, которое ты случайно подсмотрел и невольно перенял, о том не подозревая.
Мы до последнего дня своей жизни обязаны учиться искренности у всех тех людей и вещей, в которых мы глубоко проросли и которые глубоко проросли в нас. Обязаны не кому-то, это было бы смешно, а тому, что в нас есть главное, невыразимое. Какие бы пороги откровенности мы ни переступали в игре, как бы ни обнажали свои души, с какой бы изобретательностью ни разоблачали мир или самих себя – иногда это одно и то же, мы и на шаг не приблизимся к искренности. Откровенность разоблачает. Искренность облачает. Искренность есть отблеск сокровенной последней реальности, к которой мы причастны, и не только в будущем, но и в настоящем, если мы за «житейской поверхностью» прозреваем «мистическую глубину», за нитями бытия видим саму его ткань, то целое, которое и есть великая тайна жизни. И кто бы ни надевал маску, личность или вещь, наш внутренний или внешний человек, это всегда покушение на целостность, к встрече с которой мир не готов или готов, но на словах, в намерениях. И ладно бы не готов был только мир, – прежде всего не готовы мы сами: «Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». С недоумением и горестью чувствует человек двойственность и противоречивость своего существа, как пишет комментатор Библии А. Лопухин.
Какую же роль играет маска в борьбе этих двух начал? Маска – совершенный способ соединения с несовершенным миром, а также верный способ защитить низшее и недоброе в себе. Но когда маску надевает актер, чей опыт искренности подкреплен талантом, целостность на какие-то мгновения восстанавливается. Лицо актера начинает жить своей особой жизнью, просвечивая сквозь маску, а значит, актер в некотором смысле снимает маску, за которой до поры до времени скрывается реальность лица. Это редкие мгновения, но они дорогого стоят. Размышляя о христианстве, Б. Вышеславцев пишет: «Любовь есть мистическая связь одной индивидуальной глубины с другою, мост над двумя безднами»[590] (курсив мой – Р. П.). Но раз связь мистическая, значит она устанавливается между внутренними существами любящих людей, в которых только и может со всей силой сказаться божественное начало. Точно такая же связь, такой же мост перекидывается и от актера к зрителю, когда актер снимает маску в символическом измерении. В том измерении, которое не от мира сего. Игра актера только тогда перестает быть кажимостью, когда вместе с актером – проводником – святым или мерзавцем, палачом или жертвой, королем или шутом мы приближаемся к границе двух миров и наше сердце начинает биться на пороге «как бы двойного бытия», то есть мира другого человека и иного мира.