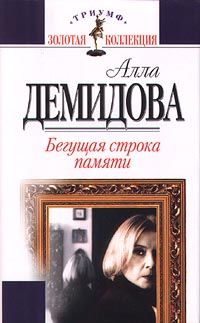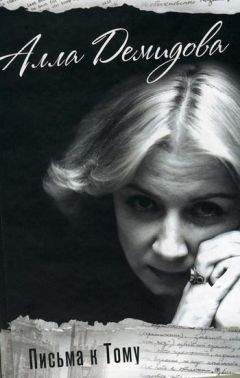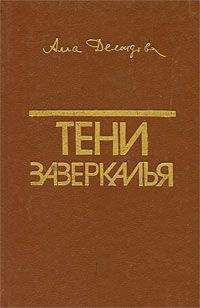Теодор Терзопулос – один из немногих режиссеров современного мирового театра – проводит по этому методу мастер-классы и в своих спектаклях наглядно использует эту «психическую энергию» в воздействии на зрителей.
Спектакли в его постановке этому пример. Жанр трагедии – это воля, которая лишена возможности воплотиться в действие. В этом заключается конфликт. Актеры в странно застывших позах, через слово, а главное – через диафрагментное дыхание, передают нам образ спектакля. Со сцены идет мощный поток энергии, завораживающий, втягивающий тебя в действо. Я не знаю, какой внутренний орган зрителя воспринимает эту психическую энергию, идущую со сцены, но про себя я могу точно сказать, что чувствую свое абсолютное участие в той реальности, которую создает на сцене Терзопулос.
Энергетические центры актера надо развивать. И здесь нам на помощь приходит в данном случае метод Теодора Терзопулоса. Его книга, пожалуй, впервые на русском языке формулирует технические упражнения для выявления и развития энергетических центров актера. Без этого древнегреческую трагедию не сыграть. Ее нельзя перевести на обычные приемы психологического театра. И может быть, пройдя школу по выявлению психической энергии в мастер-классах Терзопулоса, русский театр наконец раскроет для себя великую тайну древних греческих трагедий.
В Боба Уилсона я влюбилась до того, как про него узнала. Давно, в Польше, я увидела его спектакль «Эйнштейн на пляже». Поразили тогда яркость и чистота красок на сцене, архитектурное построение мизансцен и, главное, свет, которого я до той поры не видела на сцене. Потом, где-то в 75−76-м году, в Белграде на «Битефе» этот спектакль вместе с «Племенем Ик» Брука и нашим «Гамлетом» разделил 1-ю премию. В 90-х годах, когда мы с Терзопулосом объезжали все интересные театральные фестивали, я каждый раз наталкивалась на Боба Уилсона. Его спектакли были разные и по исполнению тоже. Я давно заметила, что чем ярче режиссерская идея и конструкция спектакля, тем профессиональнее актеры должны это все исполнять. Часто он работал с молодыми студийцами, и тогда все говорили, что жаль, Боб Уилсон на этот раз не в форме или что Боб Уилсон повторяется. Но когда он делал спектакли, что называется, с серьезными актерами, – получались шедевры.
На фестивалях, особенно в таких местах, где кроме этого фестивального пятачка пойти некуда, – как например в Шизуоке (на севере Японии) или в Дельфах – все клубятся в общей столовой или на бесконечных спектаклях и собеседованиях и когда одного и того же человека видишь на дню по сто раз, так вот – только не Уилсона. Если с ним встретишься в очереди к общей стойке столовой, он возьмет свой поднос и скроется неизвестно куда. Сколько раз Теодор Терзопулос расчищал для него место за нашим столом – бесполезно, Уилсон исчезал. Говорит он медленно, словно ему трудно или лень произносить слова. Говорят, что он был аутистом. Эта болезнь проявляется по-разному, у Боба Уилсона, к счастью для нас, она вылилась в театр.
После окончания Техасского университета, где он изучал архитектуру, Боб стал работать с умственно отсталыми и глухонемыми детьми. Он для них открыл театр «Ролевые игры». Уилсон работал с шизофрениками, парализованными, онкологическими и безнадежно больными детьми. Их страхи, фантазии, болезни он выявлял в сценических образах. На сцене появлялись жабы в человеческий рост, огромные трехметровые призраки, женщины с ужасными рыжими париками, падали звезды, не небе сияли месяцы и солнце, листва была нестерпимо зеленой, а небо ультрамариновым. В первом серьезном спектакле, о котором стала писать критика, огромный бык из папье-маше глотал солнце и потом внутри него появлялся свет – бык становился солнцем. Этот спектакль назывался «Взгляд глухонемого»: в нем был занят глухонемой мальчик-негр Раймонд Эндрюс, которого Уилсон спас в свое время и потом усыновил. Эндрюс играл в постановках Уилсона и после: в «Жизни и времени Иосифа Сталина», в «Эйнштейне на пляже» – последнюю я видела давно в Польше.
Уилсон шел к своему методу, видимо, интуитивно, используя в работе видения больных людей и превращая их в искусство. В красоту.
«Я часто не понимаю, что я сделал, до тех пор, пока не начинаю об этом говорить», – прочитала я где-то слова Боба Уилсона.
Но сами слова на сцене для Уилсона неважны. Монологи актеров превращаются в спрессованные блоки слов, смысл которых кроется в чем-то другом.
Он работал с профессиональными и знаменитыми актерами. Я, например, видела и Ютту Лампе в «Шаубюне» в его спектакле «Орландо», и Изабель Юппер в «Квартете», и Джесси Норманн и его знаменитый спектакль «Басни Лафонтена» в «Комеди Франсез», и «Сонеты Шекспира» с немцами, и наконец, у нас «Сказки Пушкина» в Театре Наций.
Мне тоже Боб Уилсон предложил работать вместе. Но – по порядку.
В конце 90-х годов, когда я уже не работала в Театре на Таганке, неожиданно позвонил Любимов и попросил еще раз сыграть во вновь восстановленном спектакле «Добрый человек из Сезуана». Я сказала: «Хорошо, но только один раз». Спектакль мы играли в день рождения театра 23 апреля 1999 года.
На спектакле был Боб Уилсон. На банкете он подошел ко мне и предложил работать вместе. «Над чем?» – спросила я. «Ну, например, „Гамлет“, – ответил Уилсон. – У меня есть готовый моноспектакль, где я играю Гамлета. Если хотите, я вам его подарю». Я не согласилась, потому что видела этот спектакль, основная его идея – отношение Гамлета к матери и Офелии, рисунок роли сделан явно для мужчины. «Тогда, если хотите, „Орландо“», – продолжал Уилсон. И опять я не согласилась, потому что видела эту его постановку в «Шаубюне» с прекрасной Юттой Лампе, знала, что он делал «Орландо» и для Изабель Юппер во Франции, и не хотела идти по проторенной дороге. Тогда я предложила «Записки сумасшедшего» Гоголя. Что такое сумасшествие на сцене? Когда Офелия сходит с ума, мы, зрители, ведь только отмечаем, хорошо играет актриса или нет. А когда актриса решает, что она Гоголь и пишет (играет) на сцене «Записки сумасшедшего», – это уже близко к помешательству. Меньше всего мне хотелось бы играть Поприщина, но раскрыть тему сумасшествия России, по-моему, очень интересно. В музыке это есть, например у Скрябина. А как решить эту задачу театральными средствами – вопрос. Уилсон уехал, прочитал Гоголя и прислал мне по факсу красивую графичную записку, которую не худо бы повесить на стену. Один критик, кстати, узнав, что Боб Уилсон хочет репетировать со мной, написал, что он выбрал в России самую западную актрису и лучше, мол, выбрал бы кого-нибудь из психологического театра. Но дело в том, что Уилсон никогда не работал в психологической манере и не любит этого направления. Здесь наши вкусы совпали.
Когда Боб Уилсон пригласил меня работать вместе, очень многих заинтересовал его проект. Особенно критиков. Многие спрашивали у него, почему он выбрал именно Демидову. Я приведу один из его ответов на этот вопрос, не потому, что он лестно отзывается обо мне (хотя мне это очень приятно), а потому, что он именно отмечает в актере, когда тот ему подходит. Когда он посмотрел «Доброго человека из Сезуана», он сказал одному критику: «Когда только Алла появилась, в самом воздухе сцены произошла качественная перемена, как будто включилось что-то очень важное, и я оказался целиком во власти ее удивительного физического присутствия. То, что она делала, было вроде бы очень просто: она играла в первую очередь для себя, сохраняя дистанцию со зрителем. Это было очень холодно и очень сильно. Внимание к деталям – движениям глаз, расстоянию между пальцами, краскам голоса, чувству сценической пластики, ощущению пространства – все соединилось, и все было важным… В ней есть внутренняя сила и притягивающая меня загадочность: никогда нельзя точно сказать, о чем она думает на самом деле».
Простите мне эту цитату, но я не могла удержаться, чтобы не привести ее: из-за того, как Боб Уилсон говорит обо мне, и из-за точного его глаза.
Он приехал в Москву на переговоры (проект этот финансировался), и мы сидели в кабинете у Шадрика. Уилсон был с ассистентом, с собой привез компьютер (это для того времени для нас было не очень обычным – работа была запланирована на 2001 год). На этом компьютере он нам показал куски музыки, которые он хотел включить в будущий спектакль, и фотографии его Центра под Нью-Йорком, где мы должны были начать репетировать. Судя по фотографиям, там было много молодежи, какие-то стеклянные павильоны для занятий. Все это немного напоминало наши пионерские лагеря по атмосфере. Надо сказать, подобное меня немного напугало. Я себя не видела в этой молодежной тусовке. И потом, я не знала английский язык, а все время зависеть от переводчика в репетициях – я знала, чем это грозит, помня первые репетиции с Терзопулосом в «Квартете».
Тогда же Уилсон попросил порекомендовать ему какого-нибудь молодого русского режиссера, чтобы можно было легче работать и набираться друг от друга новых театральных идей. Я посоветовала Кирилла Серебренникова, с которым делала для телевидения «Темные аллеи» Бунина. Кирилл в это время жил с родителями в Ростове-на-Дону, я позвонила ему, сказала, что Боб Уилсон хочет найти для совместной работы русского режиссера. Кирилл, не вдаваясь в подробности, просто сказал: «Лечу!» – и прилетел на следующий день рано утром. Они встретились с Уилсоном, погуляли по Москве, сфотографировали памятник Гоголю во дворе Литинститута, поговорили и, по-моему, понравились друг другу. И моя вина, что эта работа не состоялась. Тогда я просто испугалась. Моя ошибка. Очень жалею.