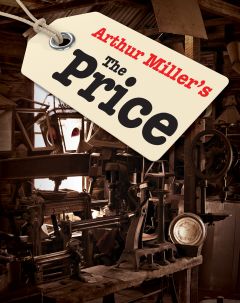Виктор. Но это еще не три года…
Эстер. В марте будет три. Три года!
Виктор (так, словно это только что окончательно до него дошло). Ну, хорошо. Давай поговорим. Может быть, прямо в четверг.
Эстер. А у меня предчувствие, что все эти разговоры будут тянуться, пока тебе не стукнет шестьдесят пять. Надо не говорить, а сделать!
Виктор. Скажу тебе честно, я не совсем уверен, что все это реально. К тому времени, когда я смогу взяться за что-то новое, мне будет уже пятьдесят три — пятьдесят четыре.
Эстер. Ты не знал этого раньше?
Виктор. Знал, но когда доходит до дела, все выглядит иначе. И я уже не уверен, что в этом есть хоть какой-то смысл.
Эстер (отодвигаясь от него, с отчаянием). Я тысячу раз тебя предупреждала, что так оно и будет! Но если в этом был смысл раньше, значит, он есть и сейчас! У тебя впереди еще двадцать лет, и за эти двадцать лет ты успеешь сделать тысячи интересных вещей. Ты же такой молодой, Вик!
Виктор. Я?
Эстер. Конечно. Я уже нет, а ты — да. На тебя заглядываются все девочки!
Виктор. Мне трудно говорить о будущем, Эс. Я его себе плохо представляю.
Эстер. Вот и давай поговорим о том, чего ты не представляешь! Почему тебе непременно надо все себе представлять?
Виктор. Послушай, детка, но кто-то из нас двоих все-таки должен служить?
Эстер. Хочешь, чтобы я делала вид, что все прекрасно? А я в тупике. Я не хочу делать вид, что все прекрасно! Я десятки раз просила тебя написать Уолтеру!
Виктор. Опять Уолтер! При чем тут он? Вечно ты сводишь разговор к этому…
Эстер. Он известный ученый. Его больница — целый исследовательский институт, я читала в газете. И это его больница!
Виктор. Этот человек не позвонил мне ни разу за шестнадцать лет.
Эстер. Но и ты ему не звонил.
Виктор. Почему я должен был ему звонить?
Эстер. Потому что он твой брат, потому что он влиятельный человек, потому что он может тебе помочь. Нормальные люди так и делают, Вик.
Виктор. Очень жаль, но Уолтер мне не нужен.
Эстер. Я же не прошу, чтобы ты восторгался им. Да, он эгоист и сукин сын. Но, по-моему, он мог бы что-нибудь придумать для тебя. И я не вижу в этом ничего унизительного.
Виктор. Допустим. Но почему ты с этим как с ножом к горлу?
Эстер. Очень просто: я, наконец, хочу знать, на каком я свете? (К собственному удивлению, она закончила почти на крике. Муж молчит. И она идет на попятный.) Я готова па все, но я хочу знать: во имя чего? Все эти годы мы оба твердили: как только будет пенсия, мы начинаем жить. И после того, как мы пять лет стучались в одну и ту же дверь, она вдруг открылась, и мы стоим на пороге. Чего? Иногда мне приходит в голову, что я тебя не понимала и тебе правится твоя служба.
Виктор. Я ее терпеть не мог с первого дня.
Эстер. Тогда во всем виновата я! Я мало помогала тебе, потому что слишком малого требовала от тебя.
Виктор. Ну, положим, ты умела бывать и фурией!
Эстер. Нет, я просто старалась, чтобы у тебя был надежный тыл, ты хотел этого — и я старалась. А что толку? Господи, перед самым уходом я осмотрела нашу квартиру — нельзя ли забрать что-нибудь отсюда… Мы живем среди такого уродства! Все старое, бесвкусное, обшарпанное. А у меня был хороший вкус! А все потому, что мы всегда жили какой-то временной жизнью. Мы никогда не были кем-то, мы всегда только собирались кем-то стать. В конце войны, когда любой идиот мог нажить кучу денег, — вот когда надо было увольняться! И я знала это, знала!
Виктор. А я и хотел тогда уволиться. Эго ты испугалась.
Эстер. Потому что ты сказал, что после войны наступит депрессия.
Виктор. Пойди в библиотеку, полистай газеты за сорок пятый год и посмотри, что в них написано.
Эстер. Плевать мне на газеты!
Виктор. Клянусь тебе, Эстер, порой, слушая тебя, можно подумать, что мы никогда и не жили как люди.
Эстер. Боже, до чего права была моя мама! Почему я никогда не верю себе? Я же знала, что если ты не уйдешь из полиции во время войны, ты уже никогда не уйдешь. Понимала и молчала. Знаешь, в чем наше проклятье? Мы не умеем думать о деньгах! Беспокоимся о них, говорим о них, по они нам никогда по-настоящему не нужны. Мне нужны, а тебе — нет. Они в самом деле нужны мне, Вик. Я хочу, чтобы они у меня были!
Виктор. Поздравляю!
Эстер. Иди ты к черту!
Виктор. Перестань все время сравнивать себя с другими. Ты последнее время только этим и занимаешься.
Эстер. Значит, я не могу иначе!
Виктор. Лучший способ почувствовать себя неудачницей! Потому что все равно, всякий раз кто-нибудь тебя да обскачет! Послушай, ну что случилось? У меня есть свой характер. Так же как и у тебя. Я не изменился…
Эстер. Нет, ты изменился. Как только встал вопрос об отставке, ты ходишь как потерянный.
Виктор. Да, отставка — это проблема. И я пока не знаю, как мне ее решить.
Эстер (за ее нетерпением скрывается сочувствие). Что тебе мешает решиться? Разве ты с самого начала пс знал, что рано или поздно уйдешь в отставку?
Виктор. Это верно, но… Я уже несколько раз принимался заполнять разные анкеты. Но посмотришь на эти чертовы анкеты и ничего не можешь с собой поделать… Двадцать восемь лет жизни! Подводишь под ними черту и спрашиваешь себя: все? Неужели пора? И отвечаешь: да, пора. Но беда в том, что когда я думаю, как начинать жить заново, у меня маячат перед глазами две цифры: пятерка и ноль — и не хватает духу забыть о них. С этим надо что-то сделать. И я сделаю! Только не знаю что. Каждый раз начинаю думать и каждый раз боюсь. Например, когда я вошел сюда, я вдруг подумал: это же нужно было спятить с ума — стаскивать сюда все подряд, словно этому цены нет! Как это я еще не приволок сюда проводку и дверные замки! Я хочу сказать, что когда оглядываешься назад, многое из того, что казалось необыкновенно важным, выглядит нелепым. Взять хотя бы все, что я делал для отца, — сейчас мне это кажется просто невероятным.
Эстер. Но ты любил его.
Виктор. Да, конечно. Но одним этим словом всего не скажешь… Кем он был? Обанкротившимся дельцом, таким же, как тысячи других, а я вел себя так, словно гора рухнула. Иногда мне приходит в голову: может быть, я не хочу увольняться потому, что сожалею о сделанном куда больше, чем мне самому кажется, — и я просто боюсь посмотреть правде в глаза. И какая разница, чем ты занимаешься, раз все равно не занят любимым делом? Заниматься любимым делом — такая роскошь, о которой большинство и не помышляет. И быть полицейским тоже не самое последнее дело, хотя ты с этим и не согласна. Но я не раскаиваюсь. Благодаря этому мы с тобой, по крайней мере, не тонули и не пускали пузырей. Не знаю, как объяснить, иногда мне начинает казаться, что это не я, что мне кто-то рассказал всю эту историю про меня. С тобой не бывает так?
Эстер. Чуть не каждый день! Я вспоминаю, как в первый раз поднялась по этой лестнице — мне было девятнадцать. Я вспоминаю, как ты открыл коробку со своим новым полицейским мундиром. Мы шутили, что, если в доме не будет порядка, ты вызовешь полицейского.
Оба рассмеялись.
Тогда для нас все это было как маскарад. И мы были правы. Именно тогда мы и были правы!
Виктор. Знаешь, Эстер, время от времени ты делаешь попытки впасть в детство, и это…
Эстер. Да, делаю! Потому что мне надоело… Ладно, бросим это. Пойду пройдусь. Хочу выпить. (Идет за своей сумочкой.)
Виктор. Эстер, я бы не хотел заводить всю эту карусель сначала, предупреждаю тебя!
Эстер. Что я — алкоголик?!
Виктор. Вот что. Прекрати заниматься ерундой! По сравнению с огромным большинством людей ты жила прекрасно! И брось делать вид, что ты несовершеннолетняя, и подражать этим нынешним молокососам!
Эстер. Ах, вот как! Действительно, здесь, в этой комнате надо говорить серьезно. На твоем месте я бы помолчала! Вся эта мебель без толку пылилась и гнила здесь только потому, что ты, видишь ли, годами не мог заставить себя поговорить по телефону с собственным братом! Да с тобой всю жизнь будешь чувствовать себя несовершеннолетней! Именно это со мной и произошло!
Виктор (задетый). Ну что ж! Делай, как знаешь.
Эстер (не может сразу уйти). Где у тебя квитанция? Я заберу по дороге твой костюм.
Виктор (достает квитанцию, отдает ей. Холодно). Это сразу за углом па Седьмой авеню. Адрес на квитанции. (Отходит в сторону).