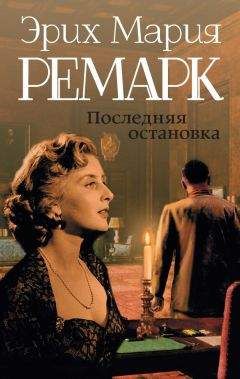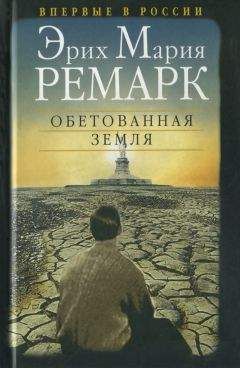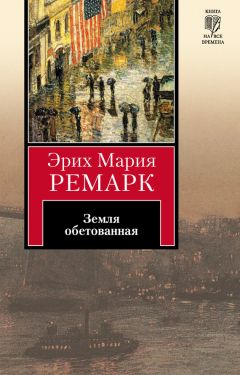изумрудах, значит, они пришли только посмотреть, чем мы располагаем. Зато если она явится без драгоценностей, тогда дело серьезней. Госпожа Ласки считает сей подход признаком особой утонченности. Каждому антиквару в Нью-Йорке известна эта ее причуда, и все над ней смеются.
– А господин Ласки?
– Он боготворит свою супругу и позволяет ей себя тиранить. В отместку он тиранит весь штат своей фирмы по оптовой продаже брюк на Второй авеню.
– Кого вы имеете в виду, говоря о коллекционерах ради престижа? – спросил я.
– Людей, рвущихся к высокому общественному положению, но еще недостаточно уверенных в себе. Нуворишей – тех, у кого новые деньги, а не старое унаследованное богатство. Мы тут выступаем в качестве посредников. Для начала втолковываем новоявленному миллионеру, что к элите он будет причислен только в том случае, если начнет коллекционировать искусство. Тогда его картины попадут в каталоги выставок, а вместе с ними и его фамилия. Примитивно до крайности, но действует безотказно. Получается, что он в одном ряду с Меллонами, Рокфеллерами и прочими великими коллекционерами. – Реджинальд Блэк ухмыльнулся. – Просто диву даешься, до чего жадно все эти акулы заглатывают столь нехитрую приманку. Верно, потому, что какая-то доля правды тут есть. А еще вернее – потому, что их подзуживают жены.
– Какой коньяк вы намерены им предложить?
– Вообще никакого. Ласки не пьет. Во всяком случае, когда совершает сделки. Жена пьет только вечером, перед ужином. Мартини. Но коктейлей мы не подаем. Так низко мы еще не пали. Ликер еще куда ни шло. А вот коктейли – нет. В конце концов, у нас тут не бар, где по случаю можно и картину прикупить. Мне вообще все это давно опротивело. Где настоящие коллекционеры, где тонкие ценители довоенных времен? – Реджинальд Блэк сделал пренебрежительное движение рукой, словно отбрасывая что-то. – Каждая война влечет за собой перетряску капиталов. Старые состояния распадаются, новые возникают. И новые богачи хотят как можно скорее стать старыми богачами. – Блэк осекся. – Но, по-моему, я вам когда-то уже говорил подобное?
– Сегодня еще нет, – поддел я этого благодетеля всего человечества, а миллионеров в особенности.
– Склероз, – огорченно буркнул Блэк и потер ладонью лоб.
– Этого можете не бояться, – утешил я его. – Просто вы берете пример с наших великих политиков. Эти твердят одно и то же до тех пор, пока сами не поверят в свои речи. О Черчилле вон рассказывают, что он свои речи начинает произносить с самого утра, еще в ванной. Потом повторяет за завтраком перед женой. И так далее, день за днем, покуда не отработает все до последнего слова. К моменту официального произнесения слушатели знают его речь почти наизусть. Самая скучная на свете вещь – быть замужем за политиком.
– Самая скучная на свете вещь – это самому быть скучным, – поправил меня Реджинальд.
– В чем, в чем, но уж в этом вас действительно нельзя упрекнуть, господин Блэк. К тому же вы свято верите в непререкаемость ваших слов – не всегда, а только в практически нужные моменты.
Блэк рассмеялся.
– Хочу показать вам кое-что из того, что никогда не будет скучным. Доставили вчера вечером. Из освобожденного Парижа. Первая голубка Ноя – после потопа и с оливковой веточкой в клюве.
Он принес из спальни небольшую картину. Это был Мане. Цветок пиона в стакане воды – казалось бы, что особенного? Он поставил картину на мольберт.
– Ну как? – спросил Блэк.
– Чудо! – сказал я. – Это самый прекрасный голубь мира, какого я видел в жизни. Все-таки есть Бог на свете! Коллекционер живописи Геринг не успел добраться до этого сокровища.
– Нет. Зато Реджинальд Блэк успел. Берите ее с собой на ваш наблюдательный пост и наслаждайтесь. Молитесь на нее. Пусть она изменит вашу жизнь. Начните снова верить в Бога.
– Вы не хотите показывать ее Ласки?
– Ни за что на свете! – воскликнул Реджинальд Блэк. – Это картина для моей частной коллекции. Она никогда не пойдет на продажу! Никогда!
Я посмотрел на него с тенью сомнения. Знаю я его частную коллекцию. Вовсе она не такая уж непродажная, как он утверждает. Чем дольше картина висит в его спальне, тем продажнее она становится. У Реджинальда Блэка было сердце истинного художника. Прошлый успех никогда не радовал его долго, ему снова и снова нужно было доказывать самому себе свое мастерство. Очередными продажами. В доме было три коллекции: общая семейная, потом коллекция госпожи Блэк и, наконец, личное собрание самого Реджинальда. И все три отнюдь не были неприкосновенны, даже коллекция Реджинальда.
– Никогда! – повторил он снова. – Могу поклясться! Клянусь вам жизнью…
– Ваших нерожденных детей, – докончил я.
Реджинальд Блэк слегка опешил.
– И это я вам уже говорил?
Я кивнул.
– Да, господин Блэк. Но в самый подходящий момент. При покупателе. Это был замечательный экспромт.
– Старею, – сокрушенно вздохнул Блэк. Потом обернулся ко мне в порыве внезапной щедрости: – А почему бы вам ее не купить? Вам я отдам по закупочной цене.
– Господин Блэк, вы не стареете, – заметил я. – Старые люди не позволяют себе таких грубых шуток. У меня нет денег. Вы же прекрасно знаете, сколько я зарабатываю.
– А если бы могли – купили бы?
На мгновение у меня даже дыхание перехватило.
– В ту же секунду, – ответил я.
– Чтобы сохранить у себя?
Я покачал головой.
– Чтобы перепродать.
Блэк смотрел на меня с нескрываемым разочарованием.
– Уж от вас-то я этого не ожидал, господин Зоммер.
– Я тоже, – ответил я. – К несчастью, мне в жизни надо еще много всего наладить, прежде чем я смогу собирать картины.
Блэк кивнул.
– Я и сам не знаю, почему вас об этом спросил, – признался он немного погодя. – Не стоило этого делать. Такие вопросы только напрасно будоражат и ни к чему не ведут. Верно?
– Да, – согласился я. – Еще как верно.
– И все равно возьмите с собой этого Мане на ваш наблюдательный пост. В нем больше Парижа, чем в дюжине фотоальбомов.
«Да, ты будоражишь меня, – думал я, ставя маленькую картину маслом на стул у себя в каморке, возле окна, из которого открывался вид на мосты Нью-Йорка. – Ты будоражишь уже одной только мыслью о возможном возвращении, которую необдуманные слова Реджинальда Блэка пробудили во мне, как удар молотка по клавишам расстроенного пианино». Еще месяц назад все было ясно – моя цель, мои права, моя месть, мрак безвинности, орестейские хитросплетения вины и цепкая хватка эриний, охранявших мои воспоминания. Но как-то почти незаметно ко всему этому добавилось что-то еще, явно лишнее, ненужное, от чего, однако, уже невозможно было избавиться, – что-то связанное