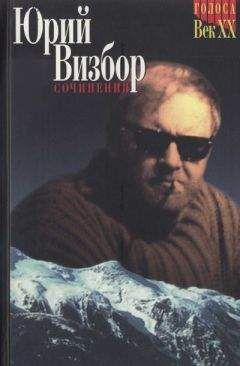— Не достал, — сказал он, выбравшись из забоя. — Три метра.
Он снял рукавицы и высыпал оттуда снег. Работать собирался Сергей. Он вывертывал карманы, чтобы в них не набился снег, застегивал все имеющиеся пуговицы и молнии на куртке и непрерывно проповедовал:
— Что же в тяжелую минуту советует нам делать поэт? О чем думать? Вот о чем: хороши, товарищи, весной в саду цветочки. Это положение ни у кого не вызывает сомнения. Но еще лучше, товарищи — это вам поэт уже советует как знаток, — девушки весной. Летом, зимой, осенью — это так себе. А вот весной — он очень рекомендует! Как врач. Встретишь вечерочком милую в садочке — заметьте, в садочке! Какая прелесть! Какая идиллия! Вот. После этого сразу жизнь покажется иной. Но где же взять милую, товарищи? А? И тем более садочек? Я думаю, оставшимся тунеядцам и бездельникам стоит подумать над этим вопросом. — С этими словами он скрылся в черной норе.
— Храбрится Серега, — сказал Леонтьев.
Мы с Бобом промолчали. Мы злились, потому что не было работы. А так сидеть и ждать — скучно, господа молодые офицеры.
…Оказывается, прошли целые сутки. Это можно было определить, взглянув на часы. На планете Земля сейчас было двадцать три часа тридцать минут по московскому времени. Тринадцать примерно метров прокопали мы за это время. Тринадцать метров, прорытых в абсолютной темноте, когда один лежит, придавленный глыбами снега, а второй ползает по кротовому лазу, перетаскивая снег на палатке. Тринадцать метров — не очень много. Здесь ходят лавины такой мощности, что будь здоров! На тринадцатом метре две лыжные палки, соединенные вместе, ничего не нащупали впереди, кроме снега…
Мы решили отдохнуть, немного поспать, если удастся. Леонтьев погасил свечу — это единственное, что нам осталось экономить, и сказал:
— Ребята, я вам хочу сказать пару слов.
Тонны снега висели над нашими головами. Половина пещеры была уже засыпана выбранным из забоя снегом. Интересно, о чем это можно говорить таким торжественным тоном? Что это за пара слов? Меня просто передернуло от его интонации. С ума уже сходит корифей.
— Я много видел в жизни. Воевал. Был ранен…
Он почему-то замолчал, едва начав говорить. Как-то деревянно все это у него звучало.
— Ну, да что я вам буду рассказывать?.. Вы сами все знаете.
(Это уже по-человечески.)
— Мне всегда везло. Сегодня я не могу сказать этого. Сегодня мы ближе всего стоим к смерти. К чему я это говорю? Я не надеюсь, что мы останемся живы. Вернее, мы, конечно, будем биться до последнего. Но так могут сложиться обстоятельства, что только кто-нибудь останется жив. Так вот: если так произойдет, то я прошу того, кто останется в живых, выполнить мою просьбу. В моей комнате, в столе, вы найдете письмо в Москву, моей жене. У нас ведь… Я хотел с ней разводиться. Я прошу: если кто-нибудь останется в живых, взять это письмо и уничтожить. Вот и все.
— Извините, Иван Петрович, но вы говорите чушь! — резко сказал Борис. — Завтра мы будем на базе. Я считаю, что вы не говорили всего этого.
— Понятно, — тихо сказал Леонтьев. — Сергей! Ты сделаешь это?
— Пустое дело — надевать чистую рубаху, когда корабль тонет. Пока мы тут возимся с торжественным бельем, уходит время.
— Отвечай на мой вопрос.
— Я отказываюсь это сделать по той простой причине, что не верю в то, что так случится.
— Петр!
— Сделаю.
— Идиот, — сказал мне Борис. — Завтра же тебе будет смешно и позорно вспоминать все это! Нельзя же так распускаться!
— Надо смотреть в лицо фактам, — спокойно сказал Леонтьев, — а не прятаться от них. Надо иметь мужество!
— Наконец-то я снова слышу свой милый одесский базар, — сказал Сергей. — Ты дура! А ты сама с румынами жила. Очень мило. Культурные люди. Никаких завещаний я лично писать не собираюсь. Все мое состояние я завещаю своим скромным соседям, которые, эх, как продадут мою «Яузу-10»!
— Прекратим этот разговор, — сказал Леонтьев. — Каждый волен поступать, как ему угодно. Мы должны отдохнуть два часа.
Все заворочались в мешках. Заснуть бы! Около меня терся-терся носом Сергей, потом сказал:
— Петюх, ты не спишь?
— Нет.
— Слушай, я вчера в этом забое сижу и думаю: вот подохну я здесь — что от меня останется? Так, бумага всякая. Фотографии. Тетрадки с лекциями. Книги. И так мне захотелось, черт побери, сына заиметь — ну просто позарез! А? Выберемся из этой конуры — с ходу заделаю сына Юльке. Прямо без разговоров! А то, знаешь, кручусь я вокруг баб, и никакого толку.
— А тебе какой толк нужен?
— Да я не об этом. Мне не толк нужен. Как-то жить пора начинать. А?
— Точно, — сказал я.
Неспалось. Тяжко кашлял Борис. То ли ему было плохо, то ли скандал переживал. Мы лежали в холодной темной норе, отделенные от жизни многими метрами снега. Там, наверху, где живут люди и растет трава, скоро наступит утро. Веселые летчики на своих серебристых истребителях поднимутся в воздух с серых бетонных равнин. На Манеже загремят снегоочистители. Дочь моя — топ-топ — к мамке в постель. Сосед хлопнет дверью — за городом работает… Заснуть бы… а?
За стеной соседка у меня — тунеядка. Ну, не тунеядка — где-то справки для участкового достает, но на работу не ходит. Встает тоже рано, к восьми, а то и раньше — в ГУМ надо. Торопливо из кухни пробежит, в зеркало разок глянет: «Ну что это за жизнь, Петр Дмитрии!» — и к такси.
Действительно, разве это жизнь?.. Только тот, кто имел осознанный шанс потерять эту жизнь, возможно, знает ей истинную цену. Жизнь дается всяким людям, даже заведомым мертвецам. Они, прожив на свете двадцать два года («В жизни раз бывает восемнадцать лет»), пишут шариковой ручкой записку, начинающуюся со слова «дорогая», и бегут с веревкой к дверному косяку, выкрикивая на ходу общеизвестные положения о любви. И если даже это оказывается сентиментальным и провинциальным фарсом, и если — смотрите! — наш герой жив, он сидит у телевизора и курит сигарету, он все равно мертв, ибо ему не дано узнать цену жизни. Истина, добытая великими страданиями, украшает человека, но не как орден, который сияет у всех на виду, а как прекрасная вершина, скрытая в глубине хребтов и доступная только тому, кто к ней придет…
Поспать бы…
Когда я очнулся, Леонтьев уже вылезал из забоя.
— Снег стал зернистым, — сказал он, — похоже на то, что наверху солнышко пригрело и все хозяйство оседает… Что, Боря, плохо?
— Худо, Иван Петрович, — сказал Борис.
— А что с тобой?
— Худо.
— Петя! В забой!
Ход стал уже, чем был вчера. Зерна сделались крупнее и противно скребли по куртке. Я копал час, а может быть, и больше. Ко мне приползали то Сергей, то Леонтьев. Боря уже выбыл из бойцов. Есть не хотелось, как вчера, но копать стало труднее. Наверно, снег стал тверже… Меня сменил Сергей. Я приполз в пещеру и лег. Боря стонал.
— Тебе копать.
— Много прошли?
— Метра три.
— Иду.
Сергей сел на мешок. Он запел:
Прощай, прощай, моя Одесса,
Я защищал тебя в бою
И за тебя, моя Одесса,
Жизнь молодую отдаю…
И за тебя, моя Одесса…
— Слушай, Петя, плохо на нашей шаланде. А?
Из дыры вылез Леонтьев. Он просто умирал — это я увидел. Никакой театральщины — пот и «глубоко ввалившиеся глаза». Он просто умирал — такое было у него лицо. Он сказал:
— Слушай, покопаешь один, ладно? Я отдохну немного.
Я полез в забой. Ударишь по снегу — отгребешь назад. Ударишь — отгребешь. Темно, холодно, безнадежно. Работа каменного века. Порой мне кажется, что мы копаем в центр какой-то снеговой планеты. Ударишь — отгребешь. Снег набивается в рукавицы, закатывается за шиворот. Противно. Я так любил этот снег раньше! Но это было давно. Неделю назад, когда мы отправлялись в маршрут, мы спокойно попирали его своими крепкими, промазанными мазью горнолыжными ботинками. Снег только жалобно поскрипывал. Мы спорили о нем, о его качествах, нам нравился сухой и сыпучий снег, на котором так легко поворачивать, мы не любили мокрого и тяжелого. Что он значил? Ничего… Ох, снег-снежок, пестрая метелица… Теперь я его ненавижу. Ударишь — отгребешь…
Свет… Я увидел свет! Вытянутая рука моя вместе с лопаткой не встретила никакого сопротивления! Это было непостижимо! Я уперся головой в снег и продавил его. Но то была не поверхность — я попал в довольно большую светлую пещерку с ровным потолком. Здесь можно было стоять на коленях. От ровного потолка шел ровный спокойный свет. Я подтянулся на руках и лег на дно пещерки. Черная дыра нашего забоя смотрела на меня, как колодец. Ничего. Пустяки. В горах нет никаких сияний и электричества. Это не может быть обманом. Это может быть только солнцем! Я встал на колени. Взял лопатку двумя руками и ударил прямо вверх в потолок.