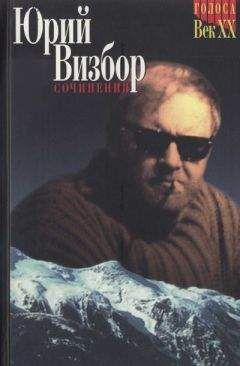— Сколько их у тебя? — спросил я.
— Шесть.
— Резвый ты.
— Резвости на одного хватило, — сказал Василий, глядя в окно и улыбаясь. — На Василь Васильевича. Остальные — приемные.
— Пятеро?
— Пятеро.
— Шутишь!
— …Зачем? Случай такой вышел два года назад. Сидел я на пересадке в Анадыре, в аэропорту, как раз Елену и Василь Васильевича вез в Глухариный. Василь Васильевичу три месяца стукнуло. А туман был — ни сесть, ни взлететь. А тут детский дом летел в Магадан не то на экскурсию, не то еще куда. Они тоже маялись. В общем, привязались ко мне ребята, орден им понравился, и так его и так…
— Какой орден?
— Трудового Знамени. Один говорит — Колька: «У моего папки вот такой же орден. Как папка меня найдет, буду орденом играть». Ну, сироты малые, чего с них взять? Ленка моя в слезы, одному нос подотрет, другому конфету сунет. Ну, в общем, часов шесть мы там сидели, рейсы все отменили, детдом обратно на автобусах к себе едет, а ребята ко мне пристали, силой не отодрать. Воспитатели ругаются. Шум, крик, слезы… В общем, мы с Ленкой этих ребят себе взяли — двух чукчей, Эмму и Кольку, потом — Петро, Станислав и Яна. Оформили чин чинарем и забрали. В Глухариный так и не полетели, а вернулись обратно, в Провидения.
Василий поковырялся в бумажнике и достал маленькую фотографию.
— Вот они, — ласково сказал он. — У меня как раз была котлоочистка, так что гулял.
Я сразу же узнал бухту Провидения, куда однажды заходил, возвращаясь из Арктики на ледоколе «Владивосток». Там, у списанного самолета, установленного во дворе жилого дома в качестве детского развлечения, стоял Василий, а рядом — симпатичная смеющаяся женщина и… семеро детей. Я пересчитал глазами — семеро.
— Здорово! — сказал я. — Только здесь детей семеро. Лишний, что ли, один?
— Зачем лишний? Это соседский Валька. Отец с матерью в моря ушли, а он с нами жил.
Вечер у Логинова дома получился хороший и какой-то раскрепощенный. Жена Алексея Леонтьевича Жанна, которую он по непонятной мне причине называл Дунькой, оказалась учительницей французского языка в школе и была в курсе всей театральной жизни Москвы, Ленинграда и Минска. Мы с ней много об этом говорили. Я с удовольствием отметил, что она ни разу не спросила о том, кто из артистов развелся, кто на ком женился. Ее интересовали вопросы режиссуры и общего решения тех или иных пьес. Логинов с интересом слушал нас и сам рассказал, как в армии «по приказанию батальонного начальства» он сыграл роль шпиона в какой-то одноактной пьесе про границу. Жанна, наверняка слышавшая этот рассказ не в первый раз, заразительно смеялась. Хорошо, когда в доме смеются.
Потом я заметил картину на стене: под стеклом, в рамке висел портрет Логинова из обложки еженедельника, а второго человека, который стоял рядом с ним, на картинке не было. Он был искусно вырезан ножницами, и если бы я раньше не видел обложку, то решил бы, что так и надо. Огорчившись, я не удержался и спросил об этом. Логиновы на секунду замолчали, и возникла неловкая пауза, будто спрошено о чем-то неприличном.
— Это Лешин друг бывший, — сказала Жанна.
Логинов внимательно посмотрел на жену, но та ничего не добавила, только закурила.
— Собутыльник, — сказал Логинов, — так будет правильней сказать.
Он явно расстроился и вышел курить на балкон. Жанна поднялась, стала собирать посуду.
— Друг он ему был, друг настоящий. Ефим Сойкин, — тихо сказала она, будто выдавая какой-то секрет.
Логинов вернулся с балкона мрачный, и, чтобы сгладить обстановку, я спросил: правда ли, что ДСК поставляет некачественные панели? Логинов живо откликнулся на эту тему и привел многочисленные случаи. Жанна принесла чай, но вечер был сломан, как ветка.
— А у тебя есть дети? — спросил Василий.
— Есть, — ответил я. — Двое. Две девочки.
— Что ж ты так?
— Дамский мастер, — ответил я. — А у тебя как с жильем?
— Дали, — сказал Василий. — Аж три комнаты. Скучаю по ребятам. В моря уйду — на полполучки бью радиограмм. А сейчас вообще измаялся. Ленка уговорила в отпуск съездить. Ну, отправился. Приехал в этот санаторий, а мне дети снятся — и Эмка, и Колька, и Яночка, и Василь Васильевич, и Петро, и Стасик. Чего я без них? Пять дней промучился, сбежал. Теперь домой с легкой душой дую. Как ты считаешь?
— Считаю, правильно, — сказал я.
— Дай пять! — сказал Василий и пожал мне руку.
У остановки «Метро Щербаковская» в троллейбус вошли много людей. Среди них были и пожилые. Мы с Василием встали, облокотясь на поручни у заднего стекла. По журналистской привычке расспрашивать я спросил, за что он получил орден.
— Нету его уж, — сказал Василий, глядя, как бежит назад дорога.
— Потерял? — не понял я.
— В гроб положил Митрохину.
Он замолчал, явно полагая, что сообщил достаточно. Я не понял.
— Митрохину, — растолковывал Василий. — Ну, неужто не знаешь? Вадима Ивановича знаешь, а Митрохина не знаешь! Ну, ты даешь! Ты дизеля какие-нибудь знаешь?
— Нет, не знаю.
— Ну, самые простые?
— Не знаю…
— Чего с тобой тогда разговаривать? Если бы у Господа Бога был заместитель по дизелям, то это был бы Митрохин. Когда он умер, весь северо-восточный сектор Арктики заплакал. Потому что другого такого отца механикам там не было. Я у него два года плавал третьим на «Тайгоносе». Ну, знаешь, усиленно-ледовый класса «С»? Он из меня…
Василий заволновался, затряс руками…
— …Он из меня человека сделал, как дитю малую вынянчил. Кто я был до него? Мурло из техникума. А он сделал из меня мастера, и горя мне нету. На похоронах у него железные кореша и те плакали. А я в гроб ему свой орден положил. Он — наполовину его. Я еще заработаю, а он уж нет… Потом меня уже ругали за это, вызывали. Ты, говорят, Василий, орден бросил. А я говорю, не бросил, а отдал от сердца… Неужели Митрохина не знаешь?
Нет, не знал я Митрохина и даже фамилии его не слышал, Василий крепко обиделся на меня за это. Отвернулся, уставился в стекло.
Я приехал на участок. Логинов был при галстуке, в финском плаще, в шляпе. Неожиданно для него и, кажется, для самого себя я попросил комплект рабочей одежды.
У меня давнее правило: когда пишешь о людях, чей труд ты можешь попробовать, постарайся хоть смену, хоть час поработать вместе с ними. Это даст тебе собственный, хоть небольшой, дилетантский, но собственный опыт.
Выяснив, что я без фотоаппарата, Логинов расстройства своего не показал, но лазить по стройке во всем новом не решился.
— Бригада у меня замечательная, — сказал он, — дружный, спаянный коллектив. Но иногда приходится и прикрутить гайки. Дисциплина должна быть на высоте.
Было видно, что он хотел выразиться яснее, но не решался, а только добавил: «Короче, народ разный». И побежал домой переодеваться, перескакивая через лужи в новых, на высокой платформе туфлях.
Я быстро разыскал Костюкевича, представился ему. Был он и вправду пожилым человеком, но никак не стариком, как о нем говорил Алексей Лупин. Назар Степанович принимал панели, но больше смотрел за тем, чтоб меня не «зашибло». Разговору мешали: то приходил инженер по технике безопасности и придирчиво смотрел, близко ли я подхожу к краю, то быстро переодевшийся Логинов поднимался и сердито выговаривал Костюкевичу, то Костюкевич нервничал, и я нервничал вместе с ним, потому что панели производства ДСК и впрямь попадались никудышные. Несмотря на эти помехи, я все же смог расспросить Костюкевича о его помощи Лупину.
— Художник, — по-доброму усмехнулся Костюкевич. — Такое дело затеял, а что в бетоне кроется, не знал.
Когда наступил перебой с панелями, Назар Степанович без всякого предисловия сказал мне:
— Волнуется бригадир, что я с тобой нахожусь. А волнуется он, что я тебе расскажу одну историю. А не пришел бы ты сегодня в бригаду, я бы к тебе сам пришел.
Дождь немного приутих, и в клочьях тумана постепенно открывались и река, и леса, окружавшие город, и трубы химкомбината.
— Когда первую «высотку» заканчивали, — продолжал Костюкевич, — то большой шум по городу пошел. Да что там по городу — до самого Минска докатилось. Поговаривали, что за это дело Героя Соцтруда дадут. Кому? Известно кому: Ефиму Ивановичу Сойкину. Он дом-то построил. Лешка хоть и тоже бригадир, а у Ефима бегал как бы в подмастерьях. Тут, откуда ни возьмись, на Ефим Иваныча приходит анонимка — мол, пьяница.
Костюкевич бросил окурок на мокрое бетонное перекрытие.
— А он что, выпивал? — спросил я.
— Не туда глядишь, — усмехнулся Костюкевич. — Золотой он был весь. А в некоторых местах и брульянтовый. В партизанах с двенадцати лет, вот кто он был!
Костюкевич уже с открытой неприязнью посмотрел на меня.
— Ну и дальше? — спросил я.