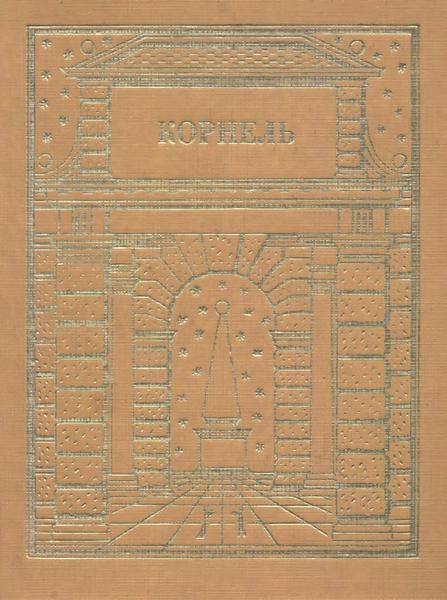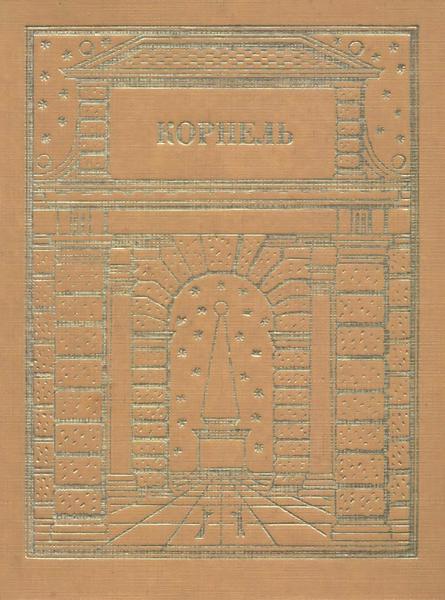class="v">Не хвалится Север тем, что свершить не может,
И, погибая, вы поймете, может быть,
Что тот, кто погубил, тот мог и защитить!
Служите же богам, забыв о милосердье,
Явите им свое старанье и усердье!
Прощайте! Но когда над вами грянет гром,
Запомните, что я, ваш враг, радел о том!
Феликс.
Послушайте меня, постойте, умоляю!
Возможность отомстить я вам предоставляю!
Увы! Напрасно я жестокостью хотел
Надежно укрепить счастливый мой удел!
Фальшивый этот блеск у ваших ног сложу я,
На жалкое свое безумье негодуя!
Неведомой теперь я силой укреплен —
Диктует волю мне таинственный закон,
Ведет меня души чудесное волненье
От ярости былой к блаженному прозренью.
Пред господом представ, мой убиенный зять
Мне, палачу, молил прощенье ниспослать.
Его святой любви высокое горенье
Меня и дочь мою влечет на путь спасенья!
Я стал ему отцом — он спас меня, как сын,
Он — мученик теперь, а я — христианин!
Вот мщенье христиан — любви святая сила,
Она и гнев, и боль, и злобу победила!
Идем же, дочь моя! Теперь хочу я сам
Быть в жертву принесен языческим богам!
Да! Христиане мы! Пускай враги нас судят!
Паулина.
Я обрела отца! Отец со мною будет!
О чудо из чудес! О счастья дивный свет!
Феликс.
Величию творца границ и меры нет!
Север.
Кто может созерцать такие превращенья,
Не веря в чудеса, не чувствуя смущенья!
Напрасно христиан мы мучим и казним —
Они наделены величьем неземным.
Так целомудренны их добрые законы,
Что небеса дают им силы неуклонно!
Чем доля их трудней, тем выше доблесть их,
В них добродетелей сиянье не простых.
Я их всегда любил, хоть их молва чернила,
Когда казнили их, всегда мне грустно было,
Хотелось мне всегда поближе их узнать.
Мне кажется, нельзя за веру презирать.
Любого бога чтить я позволял бы людям —
Отныне христиан мы угнетать не будем!
Я их люблю, как друг, и вовсе не хочу
Уподобляться их врагу и палачу.
Вам, Феликс, вашу власть я ныне оставляю,
Служите господу, монарху угождая!
А я его любви и милостей лишусь,
Но прекращенья зла творимого добьюсь.
Он сам себе вредит своею злобой гневной.
Феликс.
Да будет вам господь опорой повседневной
И да откроет вам хотя б на склоне дней,
Великий свет любви и милости своей!
А мы, воздав хвалу великому Северу,
Пойдем предать земле принявших смерть за веру
И удостоенных пресветлого венца
И будем всюду чтить и величать творца!
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ МУЧЕНИЧЕСТВА СВЯТОГО ПОЛИЕВКТА, ОПИСАННОГО СИМЕОНОМ МЕТАФРАСТОМ {124} И ДОШЕДШЕГО ДО НАС В ПЕРЕДАЧЕ СУРИЯ [21] {125}
Хитроумное сплетение вымысла и правды, этот прекраснейший секрет истинной поэзии, оказывает на зрителей — в зависимости от их душевного склада — двоякое действие. Одни так склонны верить в подлинность изображаемого на сцене, что, обнаружив в пьесе несколько известных им исторических фактов, тут же решают, что доподлинны не только эти факты, но также причины и обстоятельства, которыми автор объясняет или сопровождает события. Другие, более искушенные в тайнах нашего ремесла, считают выдумкой любую незнакомую им подробность и настолько убеждены в этом, что, когда мы избираем сюжет, относящийся к отдаленному прошлому и совершенно им не памятный, они полагают, будто он — целиком плод нашей фантазии, и видят в нем лишь одно из тех приключений, какими изобилуют романы.
Что касается данной пьесы, то как один, так и другой взгляд на вещи здесь просто опасны: речь у нас идет о славе господа нашего, выражением коей является слава угодников его, чья кончина, столь достохвальная в глазах божьих, не должна казаться надуманной и глазам людским. Мы не превознесем, а умалим святость их страданий, если, воспроизводя эти страдания на сцене, допустим, чтобы зритель, как слишком легковерный, так и чересчур подозрительный, но одинаково введенный в заблуждение вышепомянутым смешением вымысла с правдой, отнесся к христианским мученикам не так, как надлежит: в первом случае благоговея перед теми, кто этого не заслуживает; во втором — не благоговея перед теми, кто этого достоин.
Святой Полиевкт — один из тех угодников, которые — если можно так выразиться — обязаны своей известностью скорее драматическому искусству, нежели церкви. В «Римском мартирологе», {126} где днем его поминовения объявляется 13-е февраля, о нем, как обычно, сказано всего несколько слов; в «Анналах» Барония {127} ему отведена лишь одна строка, и только у Сурия, вернее, у Мозандера, {128} дополнившего последние издания Сурия, мы находим довольно подробное описание его кончины, относимой автором на 9-е января. Содержание этого места у Сурия я и счел долгом своим привести здесь. Коль скоро пьесу необходимо было сделать возможно более занимательной, дабы доставляемое ею наслаждение ненавязчиво усиливало ее нравоучительность и облегчало ей доступ к сердцу народа, я полагал уместным вооружить публику сведениями, которые помогли бы ей отличить правду от вымысла и разобраться, где речь идет о чем-то действительно святом, а где — лишь об увлекательном вымысле. Итак, вот что сообщает Сурий.
Полиевкт и Неарк, два римских всадника, связанных между собой тесной дружбой и живших при императоре Деции, то есть примерно около 250 года, в столице Армении Мелитене, исповедовали разную веру. Неарк был христианин, Полиевкт еще придерживался язычества, но обладал всеми достоинствами, подобающими христианину, и явно склонялся к тому, чтобы стать им. Когда император обнародовал чрезвычайно суровый эдикт против христиан, Неарк встревожился: его не страшили угрожавшие ему мучения, но он боялся, как бы эдикт, сулящий кары его единоверцам и почести тем, кто перейдет в язычество, не повлек за собой охлаждения, а то и вовсе разрыва дружбы его с Полиевктом. Он был так глубоко удручен, что друг его заметил это, вынудил Неарка назвать причину своей подавленности и, воспользовавшись случаем, сам открылся ему. Он сказал: «Не бойся, императорский эдикт не разлучит нас, Сегодня ночью я видел