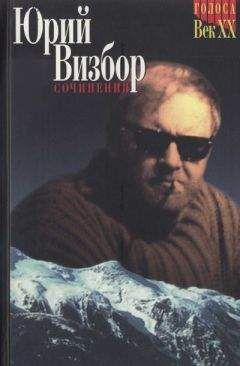Чуприкова. Вышло, вышло. Я заплакала оттого, что настоящая жизнь, настоящая наука… а, да ладно. Как все прошло?
Кондаков. Очень хорошо. Стон, обморок после включения тока. И вот на эту пластинку — «Дер эрстен блюмен ин май» — он среагировал мгновенно. Как вы считаете, это может быть одиночной реакцией?
Чуприкова. Ну, если она и одиночная, то мы… то есть вы повторите все. Будем закреплять… Раньше он никогда не ворочался во сне. Это прекрасно. Может, вас подменить? Устали?
Кондаков. Нет, спасибо.
Чуприкова. Я понимаю. Держите меня в курсе. Не стесняйтесь, что ночь. Такой ночи я, может быть, ждала всю жизнь. (Подала руку Кондакову и ушла.)
Кондаков выпил чаю и ходил по палате, то глядя на Короткевича, то куря. За окнами синело, дело шло к утру. Кондаков уселся в кресле возле кушетки и попробовал читать. Но голова его стала клониться, он уснул. Книга выпала из рук. На этот звук встрепенулся Короткевич. Он повернул голову и увидел спящего Кондакова. Совершенно неожиданно он встал, обошел, стараясь не скрипнуть, спящего Кондакова, подозрительно его осмотрев. Взял со стола кусок сахара, съел. Внимательно осмотрел фуражку фашистского офицера, оставленную Янишевским. Двинулся к двери, попробовал ее — закрыто. Подошел к окну — решетка. Кондаков пошевелился в кресле, и Короткевич мигом лег на кушетку и закрыл глаза. Кондаков встал с кресла, стал разминать руки, но тут увидел, что Короткевич подсматривает за ним. Кондаков так и остался стоять с разведенными руками. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.
Кондаков. Вам не дует? Я могу закрыть форточку.
Короткевич. Сюда не доходит.
Кондаков. Как вы себя чувствуете?
Короткевич. Нормально.
Кондаков. Меня зовут Рем. А вас?
Короткевич. Короткевич Ваня.
Кондаков стал бессмысленно улыбаться, потом мелко засмеялся, его всего трясло, с ним началась почти истерика.
Кондаков. Ваня, Ваня, какое хорошее имя! Вы не обращайте внимания, это у меня сейчас пройдет.
Короткевич. Сумасшедший какой-то…
Кондаков. Не обращайте внимания, сейчас это пройдет. Это у меня после Пулковского аэропорта началось. Неприятная история!
Короткевич. Я могу встать?
Кондаков. Пожалуйста. Вам помочь?
Короткевич. А вы что — врач?
Кондаков. Да, я врач. (Встал, прошелся.) Одну минуточку. (Позвонил по телефону.) Лидия Николаевна! Это Кондаков. Я хотел бы, чтобы мы побеседовали втроем. Да, поэтому и звоню. Хорошо. (Положил трубку.) Ваня, а у нас в городе новость — недавно открыт памятник Борису Игнатьевичу Корзуну.
Короткевич. А кто это такой?
Кондаков. Я хотел у вас спросить.
Короткевич. Я не знаю.
Кондаков. Ну, вспомните… неужели вы никогда не слышали такой фамилии? Корзун? Кор-зун?
Короткевич. Ей-Богу, не знаю.
Кондаков. Ну, а меня как зовут, помните?
Короткевич. Помню.
Кондаков. Как?
Короткевич. Рем.
Кондаков. Боже мой! Не могу в это поверить! Иван Адамович, я просто счастлив! Скажите мне, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Что у вас болит? Голова болит?
Короткевич. Болит. Не то что болит — кружится.
Кондаков. Плечо болит?
Короткевич. Болит. Тянет так.
Кондаков. Это просто изумительно!
Короткевич. Чего же тут хорошего?
Кондаков. К вам вернулась боль! Вот что замечательно. Боль, которую мы все проклинаем, является одним из дозорных человеческого организма. Значение болевого импульса в нашей жизни неоценимо!
Короткевич. Это уж точно.
Кондаков. Вы шутите, Иван Адамович! Вы шутите — я не могу в это поверить! Значение юмора в нашей жизни…
Короткевич. …неоценимо.
В дверь постучали. Кондаков открыл. На пороге — Чуприкова, Логинов, Ситник.
Логинов. Доктор, не будете возражать? (Подошел к Короткевичу.) Ну что, поздороваемся, что ли?
Короткевич. Можно и поздороваться.
Логинов обнял Короткевича, но тот не ответил на объятия и, казалось, был удивлен.
Логинов. Ну слава Богу! Молодец! И вы, Рем Степанович, молодец. А вы говорили, что, дескать, в тупике… Разводили здесь… Что же помогло? «Розамунда»?
Кондаков. Помогла сентиментальная песенка «Дер эрстен блюмен ин май». «Первые цветы мая».
Ситник. Все музыкальные архивы для вас перевернули, Иван Адамович.
Кондаков. Товарищ полковник, понимаю необходимость, но может случиться непоправимое. Будьте осторожны.
Логинов. Ограничусь лишь самым необходимым. Значит, вы — Короткевич Иван Адамович, двадцать седьмого года, белорус?
Короткевич. Да.
Логинов. Вы были членом городской подпольной организации.
Короткевич. Что-то вы путаете. Никем я не был.
Логинов. Как это?
Короткевич. Брехня.
Логинов. Одну минуточку, дорогой. До войны вы были секретарем комсомольской организации полиграфического техникума.
Короткевич. Техникума? Брехня!
Логинов. Доктор, думаю, что разговор придется все же отложить…
Кондаков. Да, лучше продолжать мне. Но не возражаю, если вы будете присутствовать здесь. Работать буду только я. (Короткевичу.) Иван Адамович, к нам приехали товарищи из госбезопасности. Полковник Логинов и капитан Ситник. Сейчас я вам дам их документы. (Взял у Логинова и Ситника удостоверения и передал Короткевичу.)
Тот внимательно рассмотрел документы и вернул.
Короткевич. Зря стараетесь, господа. Я сто раз говорил Мюнстеру, что я не тот человек, за которого вы меня держите.
Все обалдело уставились на Короткевича.
Ситник. Так вы что — за фашистов нас считаете?
Короткевич. Ну а за кого ж?
Кондаков. Я вам сообщу, Иван Адамович, одну важную вещь. Вы были очень долго больны. Война кончилась давно. Очень давно. Двадцать с лишним лет назад.
Короткевич. И кто ж, интересно, победил?
Логинов. Мы победили!
Кондаков. Вы нам не верите, Иван Адамович?
Короткевич. Я вам все сказал, господа. Я не тот человек, которого вы ищете.
Логиков. Рем Степанович… Недолечили?
Чуприкова. Есть, собственно говоря, очень простой выход. (Поднялась, сняла со стены зеркало и подошла с ним к Короткевичу.) Это — зеркало. Посмотрите на себя.
Короткевич молча смотрит в зеркало. Рука его коснулась стекла. Потом он потрогал щетину на щеках.
Вам уже не шестнадцать лет. Вы видите это своими глазами. Лицо нельзя переделать. Война давно кончилась.
Короткевич поднял лицо. Он плакал.
Короткевич. Я вижу… Думал, что это… просто обман. Не может быть!
Кондаков. Иван Адамович, вы болели много лет.
Короткевич (затрясся в истерике). Я… я не не понимаю…
Чуприкова. Поплачьте, Иван Адамович. Тут никакого стыда нет. Поплачьте, мы подождем. Вам станет легче.
Короткевич. Я потерял рассудок?
Кондаков. Сейчас идет обратный процесс.
Короткевич. Какой сейчас год?
Кондаков. Вон там, на календаре, написано.
Короткевич (посмотрел и в ужасе покачал головой. Встал). Я слушаю вас, товарищи.
Логинов. Иван Адамович, мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали все, что вы знаете о работе подпольного обкома партии.
Короткевич. Я вам скажу, где пакет!
Логинов. Какой пакет?
Короткевич. Я зарыл его под сосной у деревни Михнево, на поляне, где отряд Черткова стоял!
Логинов. А что в этом пакете?
Короткевич. Долг перед Родиной.
* * *
Кондаков (один). Такие дни, по идее, должны запоминаться по минутам, по секундам, по фразам. Ничего этого со мной не случилось. Я только помню, что Логинов и Ситник торопили нас, что, мол, сейчас же едем, куда-то мчимся, но мы с шефиней стояли как гранит, и два часа в тишине и без дерганий потратили на хотя бы элементарное обследование нашего Ивана Адамовича. Самым невероятным было то, что мы не могли обнаружить никаких существенных отклонений от нормы. Я не находил этому ни аналогов, ни объяснений. Наконец на двух машинах мы выехали в Михнево. Мне чудовищно хотелось спать, но вместе с тем я ни на секунду не хотел расстаться с Иваном Адамовичем, будто он был моей невестой. Мы домчались до этого Михнева, отыскали поляну, на которой стараниями пионеров был восстановлен лагерь партизан. Короткевич, ни секунды не сомневаясь, повел всех к той самой сосне. Два шофера через несколько минут выкопали обернутый старой полусгнившей клеенкой сверток. Это и был пакет. Логинов, Короткевич, Ситник, еще один в штатском тут же стали читать бумаги, встав в кучку, и нещадно задымили сигаретами. Один раз Логинов, постучав пальцем по какому-то листу, вырванному из школьной тетрадки в косую линейку и исписанному аккуратным мелким почерком, сказал: «Вот он и стрелял в Короткевича». Но здесь, как ни странно, я поймал себя на мысли, что все их тайны, казавшиеся мне еще вчера такими захватывающими, сейчас померкли и заслонились одной, моей, и великой тайной — Иваном Адамовичем, беглецом из страны теней, воскресшим после употребления наипошлейшего эликсира жизни — «Дер эрстен блюмен ин май»! Короткевич ходил, спорил с военными, сам пытался копать под сосной, встав на колени и пачкая только что выданный ему дешевый костюм… Он остро смотрел на собеседника, а иногда непроизвольным движением трогал щеку и щетину на щеке — побрить мы его так и не успели… Все это для меня было величайшей загадкой и огромным счастьем. Из разговоров в машине я понял, что Корзун в этот пакет вложил список агентов, которых фашисты оставляли на нашей земле, отступая. В машине горячо назывались какие-то неизвестные мне фамилии, в спорах принимал участие и мой Короткевич, проявлявший неожиданную твердость, по радиостанции передавались какие-то кодовые команды, но меня это мало интересовало. Я счастливо засыпал рядом с Короткевичем и сквозь сон понимал, что кладу голову на плечо человеку, которого еще вчера практически не было среди живых. И в последнюю секунду перед сном мне почему-то представилось, что я сейчас прихожу в свою квартиру, залезаю в ванну с дороги, а на маленькой кухне накрывает обед Лариса. Не кто-нибудь, а Лариса. Кажется, от этой мысли я улыбнулся… Мы приехали в город, и я взял Короткевича к себе домой. Мне ни на секунду не хотелось отпускать его от себя.