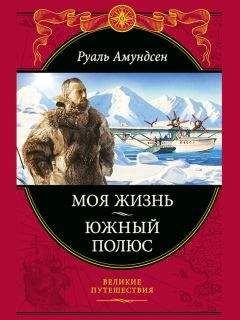Анна-Мари приближается.
Раненый (уставившись на нее). Заметит ли она меня? Нет. И она, конечно, пройдет мимо.
Анна-Мари (замечает, останавливается, колеблется, быстро подходит). Почему вы стоите здесь? Ждете кого-нибудь?
Раненый. Да, жду.
Анна-Мари. Жаль. А я хотела попросить вас проводить меня. Я должна вам кое-что сказать.
Раненый. Я не жду кого-нибудь определенного.
Анна-Мари (про себя). У него лоб Томаса. Вы проводите меня?
Раненый. Вы хотите, чтобы я пошел с вами?
Анна-Мари. Да.
Раненый (оглядывая свою потертую военную форму). Вот в таком виде мне можно пойти с вами?
Анна-Мари. Да, конечно. Идемте.
Раненый (возбужденно). Подумайте только, какой я дурак. Я стоял здесь и смотрел на людей и думал: люди злы, думал я, люди неблагодарны, бессовестно неблагодарны. Но вы посмотрите на ту девушку. Какие у нее добрые, веселые глаза. А этот седой господин, верно, ни одного нищего не пропустит, чтобы не подать ему. Люди вовсе не злы. Только загнанны, только забот у них ужасно много. Люди друг другу помогают, люди добры. Надо только поближе к ним присмотреться.
Анна-Мари (улыбаясь его горячности). Ну, конечно, конечно. Идемте же.
Южная Италия. Пустынный ландшафт. Ширь. Вдали море.
Знойное солнце, вибрирующий воздух. Античный храм.
Видны только высокие ступени и подножие облупившихся колонн, землисто-серых, огромных: все это — на фоне глубокой синевы неба.
Томас (сидит на ступеньках, один, сгорбившись, затерянный в огромном просторе ландшафта). Если ты обрек меня на деяние, боже, зачем ты связал мне руки, забросил сюда, окружил меня соблазнами? Здесь слышен голос моря, здесь земля звенит, здесь кровь моя пульсирует в ритме стиха. Я не могу заглушить свои песни, они звучат все громче. Глаза мои наполнены страданием тысяч. Но я не пал духом. Я проникся муками каждого солдата. Ибо ты так повелел, боже. Неужели же все это напрасно?
Я не могу больше вынести этой звенящей тишины. Она растворяет крик, живущий во мне, крик миллионов, которым я нужен. То, что я с такой мукой вырвал из моего сердца — певучая красота, равнодушная, безжалостная, — она опять со мной.
Унеси меня из этой страны, боже. Открой мне путь к деянию, к которому ты приговорил меня. Защити меня от меня самого, боже.
Незнакомый пожилой господин (появляется на нижней ступени храма. Одет во все белое. Носит темные очки). Вы из немецких военнопленных?
Томас. Да.
Незнакомец. Почему вас в числе других не послали на водопроводные работы?
Томас. Я болен.
Незнакомец. И вас никуда не переводят из этой малярийной местности?
Томас. Я надеюсь, что вскоре буду обменен. Вы — член следственной комиссии?
Незнакомец. Нет. Я произвожу здесь раскопки.
Томас. Во время войны?
Незнакомец. Прошлое остается все тем же прошлым, несмотря на войну.
Томас. Чудовищное настоящее обрушилось на все живое, а вы роетесь в прахе прошлого?
Незнакомец. В этих местах стояли большие города, велись сражения, государства возникали и рушились, бурлило тщеславие, стонали рабы, сверкало искусство, наживалась алчность, жажда деятельности толкала людей за моря. А для чего? Для того, чтобы я стоял здесь, растирал между пальцами щепотку пыли и размышлял.
Я не хочу быть одним из миллиардов, которые для будущего человека явятся щепоткой пыли и пищей для минутного размышления; я предпочитаю быть тем, для кого эти миллиарды жили.
Томас. Что это? Бред? Вы, сударь, усвоили себе философию, которая парализует всякое хорошее побуждение. Борьба против войны — это не бессмыслица! Она не может быть бессмыслицей!
Незнакомец (прислонившись к колонне; тихо). Действие загрязняет душу. Лишь созерцание — благо.
Томас. Я не мог бы жить, если бы это было так. Все во мне кричит: иди и действуй!
Незнакомец. Видите ли, молодой человек, и я когда-то «действовал».
Я входил в правительство одной из наших колоний. Что это значит, здесь, в этой части света, имеют лишь слабое представление. Тамошние правители обладают большей властью, чем любой король в Европе. Я стоял перед вопросом — посылать или не посылать войска для покорения одного ненадежного горного племени. Я послал войска, я начал войну. Тысячи людей погибли. Но я победил. Край был усмирен. В нем стали насаждать цивилизацию: построили железные дороги, школы, больницы, комфортабельные гостиницы. Был организован транспорт, торговля, лучшие памятники искусства отправлены в европейские музеи… (Он умолкает — неподвижная, белая фигура на фоне одной из колоссальных коричневатых колонн. Тишина. Зной.)
Томас. А дальше?
Незнакомец. Удовлетворения, однако, я не чувствовал. Я подал в отставку и вернулся в Европу.
Я сидел в своем парке, прекраснейшем парке, унаследованном мною от многих поколений. Я сидел и размышлял. Все мои предки были энергичными людьми. Среди них были воины, мореплаватели, крупные государственные деятели. Школьники заучивают их имена, вписанные (с мягкой иронией) «в анналы истории», как принято говорить. Не удивительно, стало быть, что я предпринял упомянутую экспедицию. (Снова умолкает.)
Томас, сгорбившись, сидит неподвижно.
Незнакомец. Спустя три года я сделал удивительное открытие.
Горцы, о которых я рассказывал, посылали в Европу послов. Без моего ведома. К очень высокопоставленному лицу. С трепетной просьбой — отменить мою карательную экспедицию. Высокопоставленный господин был растроган и собирался предпринять известные шаги, ибо в ту пору он читал филантропические книги. К тому же судьбой горцев заинтересовалась и некая чувствительная дама, близко стоящая к означенному господину. Но господин был еще и спортсменом, а в эти дни яхта его потерпела поражение на гонках. Это поглотило его внимание, и он упустил из виду дело горцев или даже совсем забыл о нем.
Томас. Что же было дальше?
Незнакомец. Ничего не было.
Будь сила ветра в тот день на одну десятую балла больше или меньше, сманеврируй команда яхты чуть ловчее, — и я бы не двинул моей карательной экспедиции, не погибли бы тысячи людей, не были бы построены железные дороги, ребят этого народа не посылали бы насильно в школы, музеям пришлось бы обойтись без драгоценных произведений искусства. И, возможно, остался бы на моем посту в колониях, «действовал» бы уже не столь энергично и был бы, следовательно, лишен удовольствия познакомиться с вами. (Прикасается к шляпе.)
Томас. Кто вы?
Незнакомец. Некто, изменивший лицо мира в результате простой случайности. (Кланяется и уходит.)
У Анны-Мари. Убранство комнаты нарядное, несколько кричащее, в крайне современном вкусе.
Анна-Мари (входит с раненым). Идемте. Не бойтесь. Я вас не съем.
Раненый (нерешительно следует за ней). Вы подобрали меня на улице. Вы меня не знаете, вы добры ко мне. Какую цель вы преследуете?
Анна-Мари. Я чувствую, что с вами поступили несправедливо. Это все.
Экономка появляется на ее звонок.
Анна-Мари. Луиза, подайте нам что-нибудь вкусное. Холодное мясо, сыр, торт — все, что есть в доме. Чай я приготовлю сама.
Раненый (с внезапной подозрительностью). Богатые произносят пышные речи, похлопывают нас по плечу, угощают на вокзалах жидким кофе и дешевыми сигаретами. Издеваются они над нами, что ли? (Настойчиво.) Ведь вы не такая, правда?
Анна-Мари. А если бы я была такой?
Раненый с ужасом смотрит на нее, собирается встать.
Анна-Мари. (Смеется над его наивным испугом.) Успокойтесь. Просто вы мне нравитесь.
Раненый. Извините. Но богачи обычно соловьем разливаются: ты, мол, и герой, и кровь свою проливал, и всякое такое. А когда протягиваешь руку за помощью, никого дома нет. Все это так бессмысленно. Ты — калека, женщины даже не хотят смотреть на тебя, сам себе становишься в тягость. За что? Кто теперь верит в отечество? Вы верите в отечество?
Анна-Мари. Может быть, в этом все-таки есть какой-то смысл. Я помню одно стихотворение. Называется «Мы ждем».
Раненый. А, знаю. Это Томаса Вендта. Да. Хорошее стихотворение. Но иной раз, когда вспомнишь, что ты калека, — никакое стихотворение не помогает.
Анна-Мари. Ну вот. Чайник закипел. Посмотрим, что нам принесла Луиза. Гм. Неплохо. (Ест. Протягивает ему.) Закусывайте.
Раненый. Здесь так уютно, так хорошо. Красивые вещи вокруг. (Показывая на маленькую статуэтку.) Как этот дикарь язык высунул!