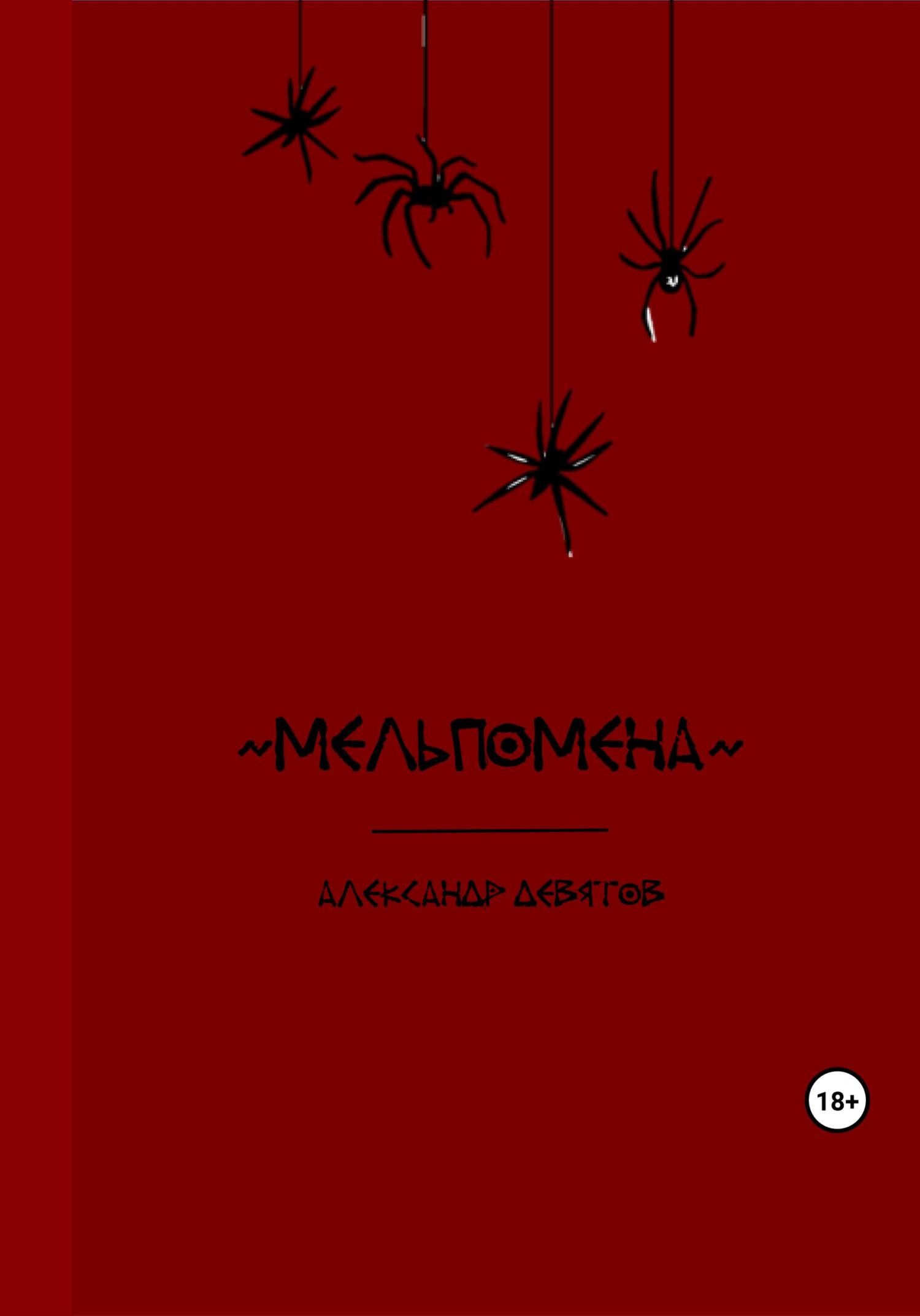даже успел было позабыть.
– Как благородно с Вашей стороны.
Старуха, едва завидев заветный конверт, с несвойственной ее возрасту прытью оказалась подле француза. Тонкие морщинистые пальцы превратились в лапу хищной птицы, которая вцепилась в деньги и, как Филипп ни пытался сопротивляться, а на это у него сейчас совершенно не было сил, вырвала у писателя его задаток. Старая карга!
– Что же Вы не сказали, что и следующий месяц решили оплатить? – пересчитывая деньги, произнесла мадам Бош.
– Хотел сделать приятный сюрприз, – с ноткой грусти в голосе ответил Лавуан. Надо было хоть что-то себе оставить… Почему я вечно так спешу?
Сил на беседу у Филиппа совсем не осталось. Как же ты теперь без гроша в кармане будешь тягаться с Виктором Моро? На этот вопрос у писателя ответа не было. Перебирая склянку в кармане пиджака, он медленно поднимался по скрипящим ступеням на свой этаж. Сейчас мысль о самоубийстве совсем не казалась такой уж иррациональной, наоборот, именно в свете последних событий Лавуану этот путь виделся наименее болезненным для его собственной персоны, чем прочие. На секунду он остановился у окна. Нет, там не было ничего интересного, просто, поднимаясь на эшафот, человек начинает видеть красоту повсюду. Филиппу всегда казалось, что эта человеческая черта и есть воплощение трусости, надежный маркер, показывающий, что душа человека готова цепляться за что угодно, лишь бы не прерывать свой земной путь.
– Мне знаком этот взгляд.
Акцент, с которым была произнесена фраза, был до боли знакомым, но голоса этого Лавуан раньше не слышал. Повернув голову, молодой человек увидел старичка, лет эдак семидесяти в больших круглых очках с толстыми линзами. Под ними покоились старомодные пышные усы, голову венчали седые, неаккуратно отпущенные волосы. Морщины, поедавшие лицо этого человека, делали владельца умудренным жизненным опытом в глазах окружающих, но искренняя детская улыбка, украшавшая сейчас его физиономию, выдавала в нем еще не успевшую отмереть юность.
– Боюсь, мы не знакомы, – дедушка протянул сухую руку, – гер Шульц, я живу этажом ниже.
– Филипп Лавуан…
– Не стоит представляться, право, – еще больше повеселел немец. – Кто же не знает Вас в этом доме? Каждый хоть раз да бывал на Ваших представлениях. Многие говорят, что драматург ничто в театре, что главную работу выполняют актеры и постановщики… Но мы же с Вами понимаем, что это чушь? – старик, словно игривая нимфетка, подмигнул писателю. – Это все равно, что сказать будто бы молоток сам забивает гвозди, или кисть рисует картину… Актеры – инструмент, ни больше ни меньше.
Слова собеседника взбодрили Филиппа, вырвав из омута греховных мыслей. Его рассуждения, безусловно лестные, поднимали самооценку и, что немаловажно, вторили собственным рассуждениям Филиппа о природе его профессии.
– Выглядите не очень, – отметил Шульц. – Пожалуй, стоит обратиться к врачу. Ваше состояние не может не удручать…
– Не волнуйтесь, гер Шульц, – поспешил успокоить немца француз, – это всего лишь из-за недосыпа. Обычное недомогание – не более того.
Немец внезапно сделался серьезным. Столь резкая смена настроения на лице немного напугала Филиппа, но внешне писатель старался оставаться невозмутимым. Шульц почесал лоб, затем глубоко вздохнул и сказал:
– Недомогание может перерасти во что-то куда более плачевное, гер Лавуан. Уж не знаю, чем вызван ваш недосып, но рекомендую Вам попробовать это, – он медленно достал из большой кожаной сумки, до того момента покоящейся у немца на поясе, банку с голубенькими пилюлями. Драже перекатывалось в неспокойных руках Шульца, пока тот передавал сосуд писателю. Филипп с осторожностью и неохотой взял подарок, но продолжал внимательно изучать как само лекарство, так и врача, выписавшего его. Немец заметил недоверие собеседника. – Не беспокойтесь, это Вас не убьет, – он позволил себе рассмеяться, обнажив оставшиеся пожелтевшие зубы, – станете спать спокойно, вернетесь во времена своего младенчества, к тому покою, что теряет человек с возрастом.
Романтичная натура доктора импонировала Лавуану. Романтичные люди, пусть и нечастое, а нынче даже вымирающее явление, тем не менее то тут то там встречаются в среде самых разных профессий. Он мог бы быть философом, родись в Древней Греции. Быть может вторым Гиппократом, но, увы, он вынужден влачить свое существование сейчас, в то время, как на первое место выходит рационализм, уничтожая человеческие чувства, а стало быть и романтику, и вместе с ней саму человеческую душу.
Филипп молча кивнул и поспешил подняться на свой этаж. Разговоров со стариками, блуждающими в четыре утра с омерзительно-позитивным настроением, с него достаточно. Сейчас он хочет отдохнуть. Комната была не заперта. Глупо. Канарейка во всю пела дифирамбы новоприбывшему господину, печатная машинка молча хранила написанный давеча текст, постель смиренно ждала, что в нее упадут. В комнате было свежо. Лавуан сел на подоконник, медленно подтянул ноги, вдохнул побольше воздуха и достал из кармана склянку с ядом.
Глупая затея. Паучихи не было видно, но голос ее был также отчетлив, как голоса мадам Бош или гера Шульца. Ты же знаешь, что это глупая затея. Почему не умереть по-мужски? Яд – наше, женское оружие. Вы, мужчины, должны сравнивать счет с жизнью совсем по-другому. Филипп выглянул в окно. Мощенная улица так и звала его тело в свои объятия. Есть ли разница как умирать?
Есть. Ты и сам знаешь. Просто ты слишком слаб, чтобы сделать шаг навстречу смерти… Голос меланхолии становился все слаще, все приторнее и вместе с тем все ехиднее и омерзительнее. Во втором кармане писатель обнаружил склянку с драже. На секунду ему показалось, что довериться совету доктора вовсе неплохая идея. Выбрось эти пилюли в окно! Какой смысл продолжать влачить жалкое существование? Ты одним своим видом позоришь все, к чему прикасаешься! Довольно этого!
Резким движением руки Лавуан впихнул в себя таблетку. Мощным глотком протолкнул ее внутрь и стал ждать результата. Все, что пришло вместе с таблеткой – усталость. Ноги сами повели писателя на кровать, чтобы ни дай бог в таком состоянии не вылететь в распахнутое окно. Организм думает обо мне больше, чем я сам…
Перед глазами как калейдоскоп раскинулись события прошедшего дня. Мелани, Фрида, Виктор, Бош, актерская труппа и прочие – все они, со своими мыслями, эмоциями, рассуждениями в один момент атаковали разум француза. Поначалу это показалось адом, но спустя пару минут, всех их поглотило море спокойствия. Каждый из встреченных людей тонул в поднимавшихся волнах океана и затем, когда последние мысли захлебнулись соленой водой, тучи разошлись, выглянуло солнце и вода, бурлившая последнюю минуту так, словно сам Посейдон гневался на весь людской мир, застыла в штиле. Ни ветерка. Только спокойный сон.
Проснулся француз уже от обеденного солнца,