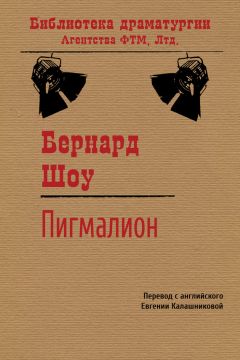Дулиттл (усаживаясь рядом с Пикерингом). Что-то я, знаете, робею перед этой церемонией, полковник. Может, вы поедете тоже, чтоб придать мне духу?
Пикеринг. Но ведь вам это не впервые, друг мой. Венчались же вы с матерью Элизы?
Дулиттл. Кто это вам сказал?
Пикеринг. Собственно, мне никто не говорил. Просто я… естественно было предполагать…
Дулиттл. Нет, полковник, вовсе это не естественно. Это только так принято у буржуазии. А я всегда поступал так, как принято у недостойных. Только вы Элизе не говорите. Она не знает, я из деликатности никогда не говорил ей.
Пикеринг. И правильно делали. Если не возражаете, мы просто не будем вспоминать об этом.
Дулиттл. Ладно, полковник; а теперь вы поедете со мной в церковь и поможете мне благополучно справиться с этим делом.
Пикеринг. С удовольствием. Если только я, как холостяк, могу вам быть полезен.
Миссис Хиггинс. А меня вы не приглашаете, мистер Дулиттл? Мне бы очень хотелось быть на вашей свадьбе.
Дулиттл. Сочту за честь, мэм, если вы нас удостоите. А уж хозяйка моя не будет знать, куда деваться от радости. Она все грустит, бедняга, что кончилось наше счастливое житье.
Миссис Хиггинс (вставая). Так я велю подавать экипаж, а сама пойду одеваться.
Мужчины, кроме Хиггинса, встают.
Я не задержу вас больше чем на четверть часа. (Идет к двери и на пороге сталкивается с Элизой; та уже в шляпе и застегивает перчатки.) Элиза, я тоже еду в церковь. Вам удобнее ехать со мной, а полковник Пикеринг будет сопровождать жениха.
Миссис Хиггинс выходит. Элиза останавливается посреди комнаты, между окнами и тахтой. Пикеринг подходит к ней.
Дулиттл. Жених! Вот это слово! От него как-то сразу становится ясно, на что идешь. (Берет свой цилиндр и направляется к двери.)
Пикеринг. Ну, Элиза, пока я еще не ушел… простите Хиггинса и обещайте вернуться к нам.
Элиза. Боюсь, что папа мне не позволит. Правда, папочка?
Дулиттл (он опечален, но исполнен великодушия). Они тебя здорово разыграли, Элиза, эти два шутника. Если бы ты имела дело с одним, уж он бы от тебя не ушел. Но, понимаешь, вся штука в том, что их было двое и один вроде как бы оберегал другого. (Пикерингу.) Хитро придумано, полковник. Но я на вас не в обиде: я бы и сам так сделал. Всю мою жизнь меня тиранили женщины, одна за другой; так что, если вам удалось провести Элизу, – не возражаю. Я в это дело вмешиваться не буду. Ну, полковник, пора нам ехать. Будьте здоровы. Генри. Элиза, увидимся в церкви. (Выходит.)
Пикеринг (умильно). Не покидайте нас, Элиза. (Идет вслед за Дулиттлом.)
Элиза выходит на балкон, чтобы не оставаться наедине с Хиггинсом. Он встает и идет за ней. Она тотчас же снова входит в комнату и направляется к двери, но он, пробежав по балкону, успевает опередить ее и загораживает ей дверь.
Хиггинс. Ну, Элиза, вы уже немножко посчитались со мной, как вы выражаетесь. Может быть, хватит теперь? Может быть, вы, наконец, образумитесь? Или вам еще мало?
Элиза. А зачем я вам нужна? Только для того, чтобы подавать вам туфли, и сносить все ваши капризы, и быть у вас на побегушках?
Хиггинс. Я вовсе не говорил, что вы мне нужны.
Элиза. Ах, вот как? В таком случае, о чем вообще разговор?
Хиггинс. О вас, а не обо мне. Если вы вернетесь на Уимпол-стрит, я буду обращаться с вами так же, как обращался до сих пор. Я не могу изменить свой характер и не желаю менять свое поведение. Я веду себя точно так же, как полковник Пикеринг.
Элиза. Неправда. Полковник Пикеринг с цветочницей обращается как с герцогиней.
Хиггинс. А я с герцогиней обращаюсь как с цветочницей.
Элиза. Понимаю. (Спокойно отворачивается от него и садится на тахту, лицом к окнам.) Со всеми одинаково.
Хиггинс. Вот именно.
Элиза. Как мой отец.
Хиггинс (с улыбкой, немного смягчившись). Я не вполне согласен с этим сравнением, Элиза, но все же признаю, что ваш отец далек от снобизма и легко свыкается с любым положением, в которое его может поставить его прихотливая судьба. (Серьезно.) Секрет, Элиза, не в уменье держать себя хорошо или плохо, или вообще как бы то ни было, а в уменье держать себя со всеми одинаково. Короче говоря, поступать так, будто ты на небе, где нет пассажиров третьего класса и все бессмертные души равны между собой.
Элиза. Аминь. Вы прирожденный проповедник.
Хиггинс (раздраженно). Вопрос не в том, плохо ли я с вами обращаюсь, а в том, видали ли вы, чтобы я с кем-нибудь обращался лучше.
Элиза (в неожиданном порыве искренности). Мне все равно, как вы со мной обращаетесь. Можете ругать меня, пожалуйста. Можете даже бить: колотушками меня не удивишь. Но (встает и подходит к нему вплотную) раздавить я себя не позволю.
Хиггинс. Так уходите с дороги, останавливаться из-за вас я не буду. Что вы обо мне так говорите, как будто я автобус?
Элиза. Вы и есть автобус: прете себе вперед, и ни до кого вам дела нет. Но я и без вас могу обойтись; вот увидите, что могу.
Хиггинс. Я знаю, что вы можете. Я вам сам это говорил.
Элиза (оскорбленная, отодвигается на другой конец тахты и поворачивается лицом к камину). Я знаю, что вы говорили, бессердечный вы человек. Вы хотели избавиться от меня.
Хиггинс. Врете.
Элиза. Спасибо. (С достоинством выпрямляется.)
Хиггинс. Вам, конечно, не пришло в голову спросить себя, могу ли я без вас обойтись?
Элиза (внушительно). Пожалуйста, не старайтесь улестить меня. Вам придется без меня обойтись.
Хиггинс (надменно). И обойдусь. Мне никто не нужен. У меня есть моя собственная душа, моя собственная искра божественного огня. Но (с неожиданным смирением) мне вас будет недоставать, Элиза. (Садится на тахту рядом с ней.) Ваши идиотские представления о вещах меня все-таки кое-чему научили, я признаю это и даже благодарен вам. Потом я как-то привык к вашему виду, к вашему голосу. Они мне даже нравятся.
Элиза. Что ж, у вас есть мои фотографии и граммофонные записи. Когда соскучитесь обо мне, можете завести граммофон, – по крайней мере без риска оскорбить чьи-нибудь чувства.
Хиггинс. В граммофоне я не услышу вашей души. Оставьте мне вашу душу, а лицо и голос можете взять с собой. Они – не вы.
Элиза. О, вы настоящий дьявол! Вы умеете ухватить человека за самое сердце, как другой хватает за горло, чтобы придушить. Миссис Пирс предупреждала меня. Сколько раз она собиралась уйти от вас, и всегда в последнюю минуту вам удавалось ее улестить. А ведь она вас ни капельки не интересует. Точно так же, как не интересую вас я.
Хиггинс. Меня интересует жизнь, люди, а вы – кусок этой жизни, который попался мне на пути и в который я вложил частицу самого себя. Чего еще вы можете требовать?
Элиза. Тот, кого я не интересую, никогда не будет интересовать меня.
Хиггинс. Ну, это торгашеский принцип, Элиза. Все равно что (с профессиональной точностью воспроизводит ее ковент-гарденский акцент) фиялочки прыдавать.
Элиза. Не кривляйтесь, пожалуйста. Как вам не стыдно передо мной кривляться?
Хиггинс. Я в своей жизни никогда не кривлялся. Кривлянье не идет ни человеческому лицу, ни человеческой душе. Я просто выражаю свою справедливую ненависть к торгашеству. Для меня чувства никогда не были и не будут предметом сделки. Вы меня назвали бессердечным, потому что, подавая мне туфли и отыскивая мои очки, вы думали купить этим право на меня, – и ошиблись. Глупая вы, глупая! По-моему, женщина, которая подает мужчине туфли, – это просто отвратительное зрелище. Подавал я вам когда-нибудь туфли? Вы гораздо больше выиграли в моих глазах, когда запустили в меня этими самыми туфлями. Вы рабски прислуживаете мне, а потом жалуетесь, что я вами не интересуюсь: кто ж станет интересоваться рабом? Хотите вернуться ради добрых человеческих отношений – возвращайтесь, но другого не ждите ничего. Вы и так получили от меня в тысячу раз больше, чем я от вас; а если вы осмелитесь сравнивать ваши собачьи поноски с сотворением герцогини Элизы, я просто захлопну дверь перед вашим глупым носом.
Элиза. А зачем же вы делали из меня герцогиню, если я вас не интересую?