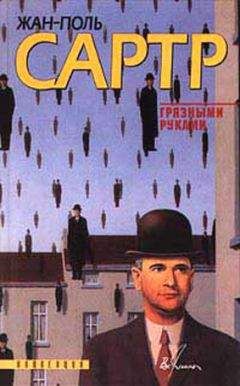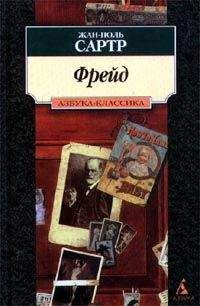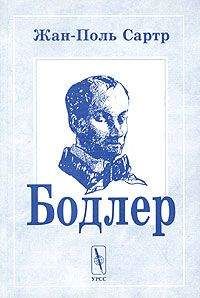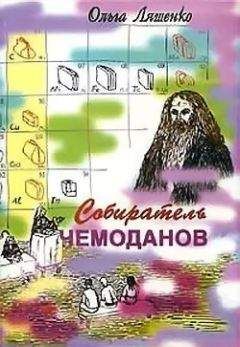Сорбье. В каком году?
Канорис. В тридцать шестом.
Сорбье. Вот так совпадение. Я как раз там был. Я прибыл в Грецию на теплоходе «Теофиль Готье». По службе. Я видел тюрьму; у ее стен растут смоковницы. Значит, ты был там, внутри, а я снаружи? (Смеется.) Уморительно.
Канорис. Уморительно.
Сорбье (резко). А если они начнут тебя обрабатывать?
Канорис. Как?
Сорбье. Если они начнут тебя обрабатывать своими приборами?
Канорис пожимает плечами.
Думаю, что стану защищаться самым простым методом. Каждый раз буду себе говорить: продержусь еще одну минуту. Это правильный метод?
Канорис. Никаких методов нет.
Сорбье. А что бы делал ты?
Люси. Вы не можете замолчать? Посмотрите на мальчика: вы воображаете, что вселяете в него мужество? Погодите еще немного, они сами вам все разъяснят.
Сорбье. Отстань, пусть заткнет уши, если не хочет слушать.
Люси. А мне тоже прикажете заткнуть уши? Я не хочу вас слушать, боюсь, что начну вас презирать. Неужели вам нужно столько слов, чтобы обрести мужество? Я видела, как умирают животные, и хотела бы умереть, как они: молча.
Сорбье. А кто говорит о смерти? Мы беседуем о том, что они сделают с нами «до». Надо к этому подготовиться.
Люси. Я не хочу к этому готовиться. Зачем мне дважды переживать то, что неизбежно должно случиться. Посмотрите на Анри: он спит. Почему бы вам не уснуть?
Сорбье. Уснуть? А они придут и разбудят меня пинками? Не хочу. У меня нет времени.
Люси. Тогда думай о тех, кого любишь. Я думаю о Жане, о моей жизни, о малыше, за которым я ухаживала, когда он заболел в гостинице в Аркашоне. Там были сосны и большие зеленые волны. Я видела их из окна.
Сорбье (иронически). Зеленые волны, неужели? Я тебе уже сказал, что у меня нет времени.
Люси. Я не узнаю тебя, Сорбье.
Сорбье (смущенно). Ты права! Это нервы. У меня нервы девственницы. (Встает, подходит к ней.) Каждый защищается по-своему. Я ничего не стою, когда меня захватывают врасплох. Если бы я только мог заранее ощутить боль — хотя бы совсем немножко, чтобы узнать... при встрече — я был бы более уверен в себе. Не моя вина. Я всегда был дотошным. (Пауза.) Я тебя очень люблю, ты же знаешь. Но я чувствую себя таким одиноким. (Пауза.) Если ты хочешь, чтобы я молчал...
Франсуа. Не мешай им говорить. Главное, чтобы не было такой тишины.
Люси. Делайте что хотите.
Пауза.
Сорбье (понижая голос). Послушай, Канорис!
Канорис поднимает голову.
Ты уже встречал людей, которые выдавали других?
Канорис. Да.
Сорбье. Ну и что?
Канорис. А какое это имеет значение, раз нам не о чем им рассказывать.
Сорбье. Я просто хочу знать, как они потом себя чувствовали.
Канорис. Кто как. Был один, который выстрелил из охотничьего ружья себе в голову. Но он только ослеп. Я иногда встречал его на улицах Пирея, его водила какая-то армянка. Он думал, что за все расплатился. Каждый сам решает, расплатился он или нет. А другого мы пристрелили на ярмарке, когда он покупал рахат-лукум. После выхода из тюрьмы он полюбил лукум, пристрастился к сладкому.
Сорбье. Счастливчик.
Канорис. Гм!
Сорбье. Если бы я им все выложил, сомневаюсь, что мне удалось бы утешиться сахаром.
Канорис. Все так думают. Но никто не знает, пока не пройдет через это.
Сорбье. Во всяком случае, я не думаю, что буду испытывать после этого нежность к себе. Мне кажется, что я бы взялся за охотничье ружье.
Франсуа. А я предпочитаю рахат-лукум.
Сорбье. Франсуа!
Франсуа. Что, Франсуа? Разве вы меня предупредили, когда я к вам пришел? Вы мне сказали: Сопротивление нуждается в людях. Вы мне не сказали, что Сопротивление нуждается в героях. Я же не герой, я не герой! Не герой! Я делал, что мне говорили: я раздавал листовки, и переносил оружие, и делал это с радостью, вы же видели. Но никто но предупредил меня, что меня ожидает в конце. Я клянусь вам, что никогда не знал, на что я иду.
Сорбье. Нет, знал. Ты знал, что Рене пытали.
Франсуа. Я никогда об этом не думал. (Пауза.) Девочка, которую вы так жалеете, умерла из-за нас. А если я заговорю, когда они начнут прижигать меня своими сигарами, вы скажете: он трус и протянете мне охотничье ружье, если, конечно, не выстрелите мне сами в спину, а я ведь только на два года старше этой девочки.
Сорбье. Я говорил о себе.
Канорис (подходя к Франсуа). У тебя больше нет никаких обязанностей, Франсуа. Ни обязанностей, ни приказов. Мы ничего не знаем, нам нечего скрывать. Пусть каждый устраивается, как может, чтобы меньше страдать. Средства не имеют значения.
Франсуа постепенно успокаивается, но остается подавленным. Люси прижимает его к себе.
Сорбье. Средства не имеют значения... Конечно. Кричи, плачь, умоляй, проси пощады, копайся в памяти, чтобы найти, в чем бы признаться, кого бы выдать. Ну и что дальше? Ставки-то нет; ты же ничего не можешь рассказать, все твои мелкие гадости останутся при тебе, в строгой тайне. Может быть, так лучше. (Пауза.) Но я в этом не уверен.
Канорис. А что бы ты хотел? Знать чье-либо имя или дату, чтобы иметь возможность отказаться их сообщить.
Сорбье. He знаю, я даже не знаю, смогу ли я молчать.
Канорис. Значит?
Сорбье. Я хотел бы узнать самого себя. Я всегда знал, что меня когда-нибудь схватят и в один прекрасный день припрут к стенке, и я буду один, и никто мне не поможет. Я спрашиваю себя — выдержу ли? Понимаешь, меня беспокоит собственное тело. У меня паршивое, плохо устроенное тело и женские нервы. Теперь это время пришло, они начнут меня обрабатывать своими методами, а я чувствую себя обворованным: я буду страдать зря, умру, не зная, чего стою
Музыка умолкает, все вздрагивают и начинают прислушиваться.
Анри (внезапно просыпаясь). Что случилось? (Пауза.) Полька кончилась, теперь наш черед танцевать.
Снова звучит музыка.
Ложная тревога. Смешно, что они так любят музыку. (Встает.) Мне снилось, что я танцую. В танцевальном зале ресторана «Шехеразада», в Париже. Я там никогда не был. (Окончательно просыпаясь.) А вот и все вы... Вот и вы... Хочешь потанцевать, Люси?
Люси. Нет.
Анри. У вас тоже болят руки? Наверное, пока я спал, они распухли. Который час?
Канорис. Три часа.
Люси. Пять.
Сорбье. Шесть.
Канорис. Мы не знаем.
Анри. У тебя же были часы.
Канорис. Они их разбили. Ясно одно — ты спал долго.
Анри. Украденное время. (Канорису.) Помоги мне.
Канорис подставляет ему спину.
(Подтягивается к слуховому окну.) По солнцу пять часов, права Люси. (Спускается.) Мэрия еще горит. Значит, ты не хочешь танцевать. (Пауза.) Ненавижу эту музыку.
Канорис (равнодушно). Да?
Анри. Ее, наверное, слышно на ферме.
Канорис. Там никого не осталось, некому слушать.
Анри. Знаю. Эта музыка врывается в окна, кружится над трупами. Музыка, солнце — картина! А трупы совсем почернели. А! Мы здорово промахнулись. (Пауза.) Что с малышом?
Люси. Ему плохо. Вот уже восьмой день, как он не смыкает глаз. А как тебе удалось уснуть?
Анри. Это случилось само собой. Я почувствовал такое одиночество, что даже захотелось спать. (Смеется.) Мы забыты всеми. (Подходит к Франсуа.) Бедный малыш. (Гладит его по голове, и вдруг, внезапно остановившись, Канорису.) В чем наша ошибка?
Канорис. Не знаю. А какое это теперь имеет значение?
Анри. Была допущена ошибка: я чувствую себя виноватым.
Сорбье. Ты тоже? Очень рад. Я думал, что нахожусь в одиночестве.
Канорис. Так вот, я тоже чувствую себя виноватым. Но что это меняет?
Анри. Не хочется умирать с сознанием, что виноват.
Канорис. Не ломай голову. Я уверен, что товарищи не упрекнут нас ни в чем; только подумают, что нам не повезло.
Анри. Наплевать на товарищей.
Канорис (шокированный, сухо). Значит, тебе надо исповедоваться?
Анри. К черту исповедь. Теперь я только одному себе должен дать ответ. (Пауза. Как бы про себя.) Все должно было кончиться иначе. Если бы я только мог найти ошибку.
Канорис. Ты бы от этого много выиграл.
Анри. Я бы взглянул ей прямо в лицо и сказал: вот почему я умираю. Черт возьми! Человек не может подыхать, как крыса, не зная за что, даже не вздохнув напоследок.
Канорис (пожимая плечами). Да?
Сорбье. Почему ты пожимаешь плечами? Он имеет право оправдать свою смерть. Это все, что ему осталось.
Канорис. Безусловно. Пусть оправдывает, если может.
Анри. Благодарю за разрешение. (Пауза.) Ты бы поступил правильно, если бы занялся оправданием собственной смерти, у нас осталось не много времени.