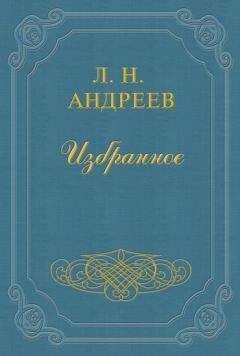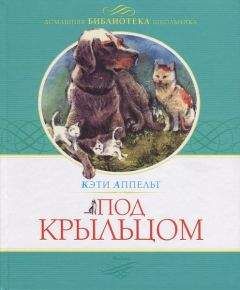Нечаев. Послушай, Всеволод!
Всеволод. И что ты в твоем отношении к ней совершенно свободен. Я говорил это?
Нечаев. Говорил. (Тихо.) Но мне это не нужно.
Всеволод. Дело твое.
Молчание.
Нечаев. Всеволод! Я человек мелкий, я человек ничтожный, сознаю это, и в этом невыносимое страдание моей жизни – тебе это известно. Но я никогда не позволю себе взять девушку, которую ты так великодушно…
Всеволод (резко). Она не моя, и я не могу ее давать. Бессмыслица! Но если бы я… если бы я мог давать ее кому хочу, то – знаешь, кому бы я дал? – Отцу. Нет, не подумай, пожалуйста, что отец влюблен, пустяки – но если бы ему было столько лет, как мне, – он любил бы ее. И она любила бы его, а не нас… что мы для нее! И если я решил покончить с собой…
Нечаев. Решил?
Всеволод. То не потому, что я влюблен, – что мне до этой женской, земной, человеческой маленькой любви, которая никогда не ответит мне: зачем я живу! Другие видят, а я смысла в жизни не вижу, Корней! Для всех весна, а у меня весной такая невыносимая, острая, мучительная тоска – зачем все это, когда я умру, сдохну, как последняя собака, умру, как скоро умрет мой отец! Для всех цветы – а для меня это цветы на чьем-то гробу! Сейчас весь город радуется, молится, в весенней тишине ждет какого-то благостного откровения, а для меня… Зачем? Зачем все это? И неужели ты думаешь, что для меня может что-нибудь значить любовь Зои, твоя измена? Только немного больше тоски, лишняя бессмысленная слеза – и больше ничего.
Нечаев. Прости! Прости меня, Сева! Я не знал, что тебе так больно, что ты так мрачен, друг мой!
Всеволод. А откуда же тебе знать? Странно! Когда твой друг в одиночестве грызет себе пальцы от смертной тоски – ты гуляешь в саду с какой-то девчонкой! Миленькая жизнь, в которой такие друзья! Когда-то ты говорил, клялся, что всюду, в жизнь и в смерть, мы пойдем вместе, что ты никогда не оставишь меня одного, – а теперь ты гуляешь по саду? Хорошо там было, Корней? – Одна душа!..
Нечаев. Какой я подлец!
Всеволод. По крайней мере, вы могли бы подождать, пока я покончу с собой.
Нечаев. Всеволод!
Всеволод. Что?
Нечаев. Ты меня презираешь?
Молчание.
Может быть, мне уйти, Всеволод?
Всеволод. Зачем же. Посиди. Сегодня у нас будет Зоя Николаевна.
Нечаев, уже взявший фуражку, кладет ее и решительно садится на место.
Нечаев. Хорошо, я останусь.
Продолжительное молчание. Входит Мацнев, не сразу замечает сидящих.
Всеволод. Папа!
Мацнев. Фу-ты: сидят и молчат. Что это вы, ребята? Отчего свету не зажжешь, Сева?
Всеволод. Нам и так хорошо. Зажечь?
Мацнев. А вам хорошо, так я и не жалуюсь. (Подходит к окну.) Какой теплый вечер, завтра все выставим. Корней Иваныч, приходите-ка завтра утречком рамы выставлять, мы без армии не обойдемся.
Нечаев. С удовольствием, Николай Андреич. Приложу все силы.
Мацнев. Сейчас и со свечками пойдут. А заря-то еще горит, как поздно солнце заходит! Всеволод, это ты на правой дорожке яблони окопал или Петр?
Всеволод. Я. А что?
Мацнев. Ничего, хорошо.
Нечаев. Николай Андреич, мне Всеволод говорил, что у вас есть хорошая зрительная труба, можно как-нибудь посмотреть?
Мацнев. Когда угодно, хоть завтра. От нас весь вокзал как на ладони. Мамонтовская роща видна… Смотри, Сева, – вон и первая свечечка показалась!
Всеволод (выглядывая в окно). Быстро идет. Ветру нет, не гаснет.
Мацнев. Тишина. – Попоете сегодня, Корней Иваныч? Мать будет ругаться, но мы ее обработаем. Сегодня и Зоя ваша будет. Как это, кажется, у Пушкина: «Зоя, милая девушка – ручка белая, ножка стройная…»[3] Соврал, кажется. Так споете?
Нечаев. С наслаждением, Николай Андреич.
Всеволод (спокойно). Он новую песню знает: «На заре туманной юности всей душой любил я милую…» Как дальше?
Мацнев. Какая же это новая, и я ее знаю. Старая.
Нечаев. Про меня, Николай Андреич, товарищи в полку говорят: гитарист и обольститель деревенских дур, он же тайный похититель петухов и кур…
Мацнев. Сильно сказано. Господа, а ведь это Васька – он! (Кричит в окно, не получая ответа.) Васька! – Всех опередил. Сейчас, значит, и наши будут, чайку попьем. Посмотрите-ка, вон их сколько показалось, как река плывет!
Нечаев (заглядывая в окно). Как красиво, Боже мой! Людей не видно, словно одни огоньки душ!
Мацнев. Правильно.
На пороге показывается с горящей свечой Вася; свеча обернута бумажкой, и весь свет падает на счастливо нелепое Васькино лицо.
Вася. Папа!
Мацнев. Ну?
Вася. Папа! Я…
Медленно, не сводя глаз со свечи, подвигается к отцу.
Папа! Донес! Первый! Мне ребята фонарь разорвали, а я бумажку сделал. Донес! Только дорогой два раза от старушки зажигал. Смотри!
Далекий гул церковного благовеста.
Конец мая. Полная луна.
Темный профиль невысокой железнодорожной насыпи; самое полотно и даль позади его залиты немерцающим ровным светом месяца. Две высокие березы по эту сторону; стволы их слабо белеют в тени насыпи, а кроны, пронизанные светом, кажутся прозрачными и воздушными. Пешеходная тропинка, идущая внизу вдоль насыпи, в этом месте наискось подымается на полотно. По тропинке – гуськом и по двое – идет гуляющая молодежь: здесь Мацневы, брат и сестра, Зоя, Нечаев, статистик Василий Васильевич, молчаливый, худой человек. Развязный студент в кителе; второй студент Котельников, бородатый, в штатском. Гимназист Коренев, Миша, двоюродный брат Мацневых, и его товарищ семиклассник. Две окончившие гимназистки: хорошенькая Катя и Столярова.
У подъема наверх некоторая заминка; поднявшись – темными силуэтами четко и резко вырисовываются на фоне озаренной светлеющей дали и скрываются налево. Смешанный, негромкий гул голосов; изредка смех. Кто-то впереди на ходу тренькает на гитаре. Поблескивают пуговицы студенческих кителей, погоны Нечаева.
Мацнев и Нечаев, несколько отделившись, идут сзади других последними.
Студент. Господа, наверх! Здесь нет проходу. Наверх!
Голоса. Почему? – Наверх, говорят, надо верхом идти – Котельников, где вы?
На минуту сбиваются в кучу.
Котельников (спокойным басом). Здесь, господа, наверх!
Гимназист. Скоро мост, вон уже семафор!
Катя. Голубчики мои, да тут ноженьки все переломаешь! Вот вели-вели, да и завели. Столярова, карабкайся!
Голоса. А сторож? – Можно идти, я всегда хожу! – Да нельзя же низом, тут мост, вам говорят!
Коренев. Надя, Зоя Николаевна, что же вы? Внизу нельзя!
Некоторые уже поднялись, другие поднимаются. Тот, что с гитарой, впереди.
Катя (с полугоры). Постойте: а поезд пойдет? Я боюсь!
Коренев. Да честное же слово, ничего! Здесь настоящая дорожка.
Гимназист. Идемте же! Ну, что стали!
Котельников. Вон Василь Василич вперед уже удрал! (Кричит.) Василь Василич!
Василь Василич (не останавливаясь и не переставая тренькать). Здесь, иду.
Гимназист (наверху, скверно поет). «Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края – и будешь там царицей ми-и-ир…» (обрывается).
Котельников (спокойным басом). «Подруга вечная моя». – Я пошел!
Все поднялись на насыпь.
Надя. Миша, как ты скверно поешь, тебе не совестно?
Коренев (хохочет). Это Скворцов загнул!
Надя. Ну, так извините. Зоечка, я возьму тебя за руку.
Зоя. Бери. А где же Нечаев?
Студент. Они сзади идут. Не ошархнитесь, Зоя Николаевна, тут скользко.
Зоя. Нет, пожалуйста, не держите, я сама.
Голоса (наверху). Конечно, здесь лучше! – Какая красота, матушки мои! – Я давно говорю, пойдемте по полотну! – Превосходная тропинка. – А сторож? – Да брось ты сторожа, вот привязался!
Гимназист (кричит). Василь Василич! Василь Василич!
Постепенно скрываются.
Катя. А я по рельсе пойду! Ох, проклятая!.. Столярова, иди.
Надя. Я тоже. Ой, сразу сорвалась!
Студент. Давайте мне руку.
Надя. Нате.