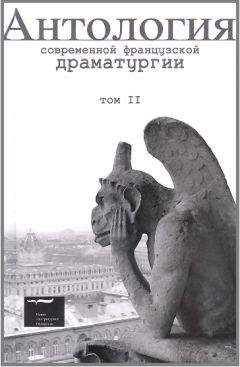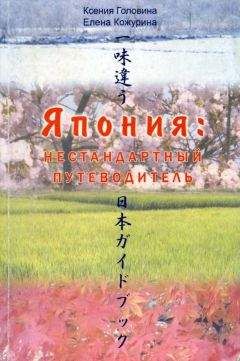ЕЛЕНА. Сама не знаю. Я не хотела. Это были важные для тебя снимки?
ВОИН, ВСЕ ВОИНЫ. Ты нарочно сделала.
(…)
ЛЮБОВНИК, УЖЕ УМЕРШИЙ. Вначале веришь — я верил — обычно все верят, я думаю, потому что это как-то успокаивает, меньше начинаешь бояться и только повторяешь про себя, будто детям, чтобы их убаюкать, вначале веришь, надеешься, что вместе с твоей смертью весь остальной мир, весь остальной мир тоже исчезнет, что пусть он исчезнет вместе с тобой, погаснет, потонет и никогда не возродится.
Все отправятся следом за мной, так мне хотелось верить, останутся со мной и никогда больше не вернутся.
Я уведу их с собой, и мне не будет одиноко.
Затем, но это было позднее — когда ко мне вернулась ирония, и успокоила, и повела за собой, — затем начинаешь думать, я лично стал думать, начинаешь думать, что пусть после твоей смерти и другие, и прочий мир останутся. А я буду их оценивать.
Теперь ты смотришь на них, они — твои, наблюдаешь, не очень-то любишь, ибо от любви к ним становится слишком печально, печально и горько, и не следует брать это в привычку. Все о них знаешь заранее, этим и забавляешься, я лично забавлялся, и, представляешь себе, мысленно меняешь, переделываешь весь строй их жизни.
А что будут творить они надо мной, когда меня не станет?
Мне бы хотелось руководить, режиссировать, элементарно воспользоваться их растерянностью, вы ведь будете растеряны, когда я умру, и направлять их. Хотелось бы слышать их, но я их не слышу, заставить их говорить основополагающие глупости, чтобы понять наконец, что же они на самом деле думают.
И я плачу. Мне хорошо. Я в порядке.
Иногда, это как будто приступ, иногда что-то на меня находит, я становлюсь злобным, злобным, как с цепи сорвался, начинаю сводить счеты.
Я вспоминаю.
Кусаюсь, мне случается и кусаться. И то, что я вроде бы уже простил, снова меня обижает, как утопленник, готовый погубить своих спасателей, я тяну их под воду, я всех вас разрушаю, яростно и безжалостно. Говорю гадости. Вижу себя в постели, потому что это ночь или просто залез в постель от страха, заснуть не могу и изрыгаю ненависть. Она меня успокаивает, я изнемогаю и в этом изнеможении наконец исчезаю. Назавтра я снова спокоен, бледен и нетороплив. Я убиваю вас одного за другим, а вы об этом не знаете, я один лишь выживаю, я умру последним, я ведь убивец, а они не умирают, вы должны будете меня уничтожить и понесете за это ответственность.
Я думаю о зле.
Никого не люблю.
Никогда вас не любил, все это была ложь, верьте мне, я никого не люблю, всегда был одинок и, будучи одинок, ничем не рискую, сам выношу все решения, о Смерти тоже, это мое решение, и умереть — значит вам навредить, ибо я хочу вам навредить. Я умираю от досады, от злобы и мелочности, приношу себя в жертву. Вы будете мучиться дольше и больше, чем я, и я это буду видеть, сознавать, буду смотреть на вас, смеяться над вами и ненавидеть ваши страдания.
С чего бы Смерть сделала меня добреньким? Это идея для беспокойных живых. У меня же, посредственности и плохого мальчика, остались лишь ничтожные страхи и заботы, ничего другого, кроме мысли: что же сделаете вы со мной и со всем, что мне принадлежало?
Не хочу быть красивым, потому что тогда меня не так будет жалко.
Еще позднее — за несколько месяцев до моей смерти — я сбежал. Я бросил даже Луи. Я езжу по миру, хочу стать путешественником, странствовать. У всех умирающих появляются подобные намерения — пробить головой окно из комнаты, широко взмахнуть своими дурацкими крыльями, странствовать, уже зная, что все пропало, что тебя не станет, бежать впереди своей смерти, верить, что способен ее обмануть, что она будто бы не сможет тебя догнать, не узнает, где ты. Там, где я только что был, меня уже не будет, я буду далеко, укроюсь в необъятных просторах, в норе и буду лгать себе и посмеиваться.
Итак, я путешествую.
Люблю быть дилетантом, якобы хрупким юношей, который чахнет и принимает позы. Я иностранец. Я под защитой. На каждый случай — у меня должное выражение лица. Тому, кого любил, я посылаю милые и нежные послания.
Коротенькие записочки.
Надо было меня видеть, меня вместе с моей тайной, в аэропорту, в зале ожидания, надо было меня видеть, я был весьма убедителен!
Мы вместе с моей будущей Смертью прощаемся, прогуливаемся, бродим ночами по пустынным и слегка мглистым улицам и очень нравимся друг другу. Элегантные и непринужденные, мы сохраняем изящную таинственность, угадать ничего нельзя, и ночные встречные испытывают к нам уважение, их вполне можно было бы соблазнить.
Я ничего не делал, не притворялся и уже заранее испытывал тоску по себе самому.
Я открываю разные страны, люблю их литературной любовью, читаю книги, рассматриваю сувениры, иногда возвращаюсь в прежние места, чтобы все повторить сначала.
А случается, что, даже не отдавая себе в этом отчета, я предпочитаю всего избегать, ничего не узнавать.
Я ни во что не верил, боялся верить.
Но когда вечером где-нибудь на вокзале — я называю первое попавшееся место, — в гостиничном номере, будь то Англия, Швейцария или «Королевский отель» на Сицилии, неважно, или же в зале ресторана, полном веселых гуляк, где я обедаю в одиночестве среди всеобщего шума и безразличия, когда кто-то будто касается моего плеча и с улыбкой заблудившегося мальчугана вдруг спрашивает:
«К чему все это?»
Это «К чему?» — будто загонщик Смерти — она наконец нашла меня без всяких усилий, — это «К чему?» тотчас отправляет меня назад домой, побуждая отказаться от тщетных и отчаянных эскапад и приказывая прекратить отныне всякую игру. Пора!
И снова я пересек пейзаж, но в обратном направлении. Каждый уголок, даже самый уродливый и нелепый, я желал запомнить, всегда отмечая, что вижу его в последний раз. Я возвращаюсь, и я жду.
Обещаю, что теперь буду держать себя в руках, никаких историй, достойно и безмолвно, обычно так об этом говорят. Я пропадаю. Пропал. Навожу порядок, отдаю себя заботам других, забываюсь, друзья совершают последние приготовления, я силюсь сохранять спокойствие, случаются даже проявления юмора.
Не жестикулирую и отпускаю символические сентенции с приятным подтекстом. Я себе нравлюсь. Отныне ничто не услаждает меня больше, чем собственная тоска.
Случалось мне также в последние мои дни улыбаться себе самому, как будто для будущей фотографии. Сегодня вы осторожно передаете ее из рук в руки, стараясь не запачкать или не оставить преступных отпечатков.
«Он был точно таким», и это так ложно, если вы хоть на минуту задумаетесь, вы согласитесь, это изначально было ложно, потому что я тогда именно притворялся, нарочно.
ЛУИ. Что я хотел сказать, мы сегодня утром были на вокзале, приехали слишком рано, мы с ним слишком рано приехали и не хотели явиться сюда спозаранок. Решили подождать.
АНТУАН. К чему ты мне это рассказываешь?
Зачем? Что я должен на это ответить, я должен что-то отвечать?
ЛУИ. Не знаю, да нет, я говорю, просто чтобы ты знал, это не так важно, говорю, потому что это правда и я хотел это сказать.
АНТУАН. Не начинай.
ЛУИ. Чего?
АНТУАН. Сам знаешь. Не начинай, ты хочешь заморочить мне голову, чтобы я уши развесил. Знаю я тебя, начнешь зубы заговаривать, и я пропал.
ЛУИ. Все было хорошо. Не знаю, обычная поездка, вам всегда хочется думать, что я живу на расстоянии тысяч и тысяч километров. Просто поехал и все. Мы поехали. Я ничего не стану говорить, если ты не хочешь.
АНТУАН. Не в этом дело. Я ничего не говорю, я тебя слушаю. Я же не мешал тебе. Ну так что? Что было на вокзале?
ЛУИ. Да ничего, ровным счетом ничего; что заслуживало бы внимания, я ведь это и говорил.
Мы пошли в вокзальный буфет, я даже точно не помню, во сколько же мы прибыли, часа в четыре, должно быть, мы были в буфете и там пережидали, оставались там, не собирались ехать прямо сюда, чтобы не свалиться как снег на голову после столь долгого отсутствия, а то они, пожалуй бы, испугались, могли бы и дверь не открыть — представляю себе Сюзанну, так и вижу ее, как она меня встречает с карабином в руках, — нет, я решил переждать, я говорил себе, я думал и поэтому начал об этом говорить, эти мысли постоянно сидят в голове, и тебе становится необходимо снова и снова их повторять — имею в виду свои будущие намерения, — я говорил себе, у меня были намерения потом рассказать тебе об этом, позднее, когда мы встретимся, а главное, рассказать только тебе и никому другому, вот что было важно, скрыть от них, потому что они могли бы рассердиться, я говорил себе, что расскажу тебе, что приехал намного раньше и какое-то время слонялся без толку.
АНТУАН. Ну так и я об этом, именно это имел в виду, обычные твои истории, и я в них вечно влипаю, и должен выслушивать, и никогда неизвестно, что правда, а что вранье, какова доля вранья.