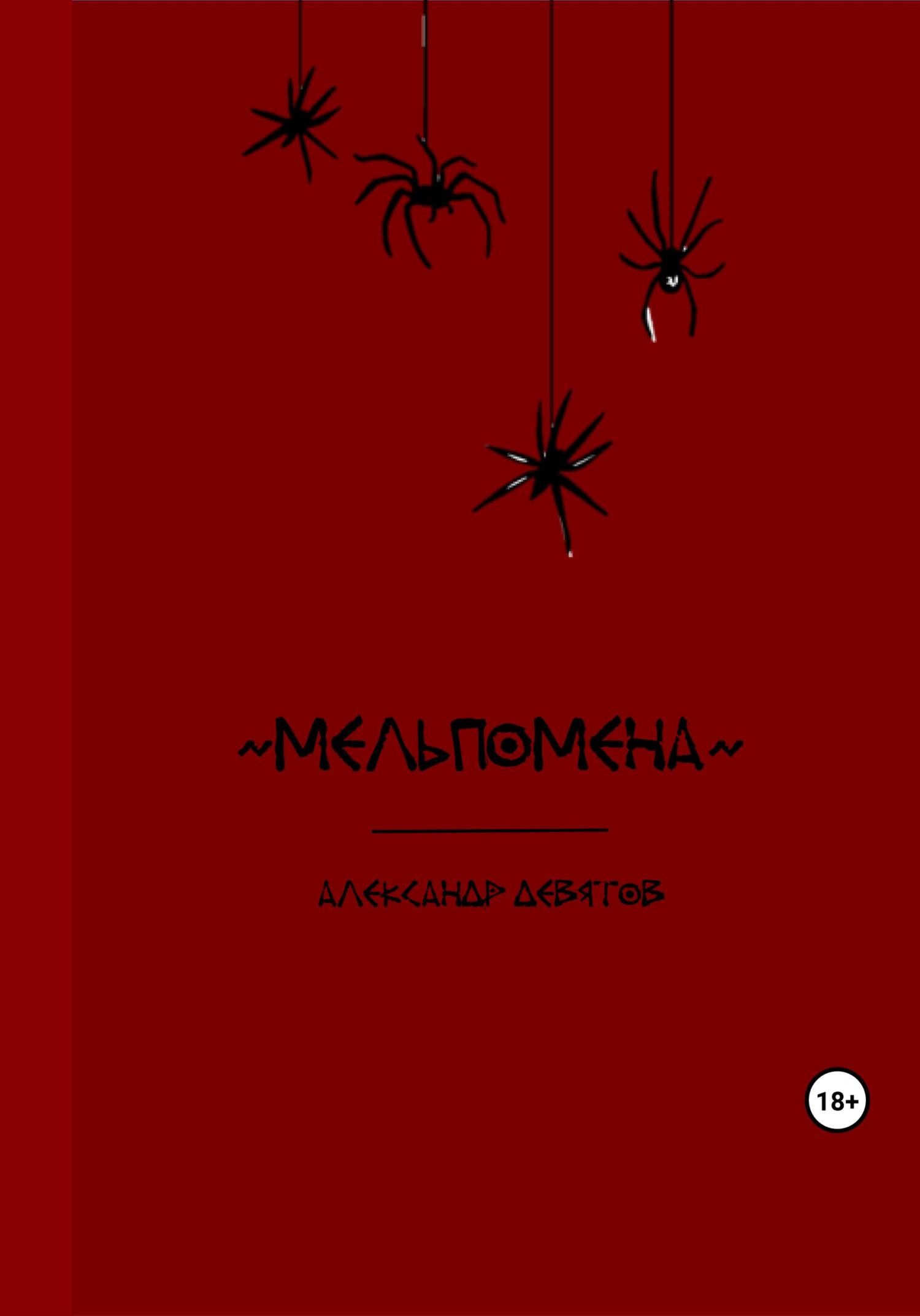покинувший помещение, чтобы проводить гостей, оставил Филиппа в компании лишь своих мыслей, да парочки доходяг, в соседних камерах, которые, впрочем, давно стали для писателя частью местного интерьера. Темные мысли поглотили разум Лавуана, и во тьме своего сознания он прибывал до конца дня, а затем всю ночь.
Пусть та ночь и была особенно тяжелой, груз положения оставался при писателе на протяжении еще нескольких дней. Писать нормально он не мог, хотя пытался заниматься любимым делом ежедневно. Пусть мсье Гобер и отказался, как оказалось, от услуг писателя, произведение, по мнению Филиппа, не было закончено, а это непозволительная роскошь для автора его уровня. Потому он и пытался найти силы для продолжения творчества, но безуспешно. Дни сменялись ночами, те уступали место новым дням, сокамерники то и дело менялись: одних освобождали за неимением улик, других, тех, что сидели за мелкую провинность, просто отпускали восвояси, а третьих, коих было наименьшее количество, перевозили в места куда более серьезные, нежели местное отделение. Один только Лавуан оставался в своей камере. Казалось, что с этим заключенным просто не знали, что делать. Будто он лишний во всех уравнениях. Поначалу эта мысль удручала француза, затем, спустя пару дней, он с ней свыкся, а по прошествии недели и вовсе стал смеяться с нее. Само его положение, пусть и было страшным, тем не менее было особенным. Даже охранники, сменявшие друг друга, постоянно шептались, а затем и громко смеялись вместе с заключенным на тему его судьбы. Сами правоохранители, разумеется, понятия не имели что же ждет Лавуана дальше, но, будучи натурами романтичными, как возможно и все французы, не стесняли себя в построении самых диких гипотез на этот счет.
– Вешать Вас, само собой, никто не станет, – рассуждал как-то один из сменщиков по имени Макс, если Филипп правильно помнил его имя. – Потому как это бы значило, что надо весь честной народ на это все дело подряжать. А тут у нас дельце-то как нельзя секретное. Стало быть, Вас должны убить где-нибудь по-тихому, так, чтобы никто ничего не узнал. Хотя это должно быть сложно. Говорят, Вы человек в городе известный.
– Говорят?
– Сам то я, уж простите, по Вашим этим театрам не ходок, знаете ли. Но те, кто ходят уж точно знают Вас. Потому и исчезнуть Вам будет сложнее. Хотя там, наверху, – тюремщик указывал куда-то в абстрактное небо, заслоненное целым зданием от глаз заключенных, – уж точно что-нибудь придумают. Надеюсь, мне не придется ничего такого исполнять, упаси Господь.
Настолько известный, что ты обо мне даже не слышал. Какая ирония. Филиппу льстило его положение. Его новое амплуа – звезды местной тюрьмы – его смешило. Это даже не тюрьма в полном смысле слова. Несмотря на весь абсурд, происходящий вокруг, доля правды и рационализма в словах надсмотрщика была. Даже если выбросить за скобки предыдущую известность Лавуана, то заключенные и жандармы, прошедшие через этот изолятор, точно разнесли весть о странном писателе, который сходит с ума в одной из клеток. О нем теперь знают, как полиция, так и арестанты, пусть и не все. Филиппу казалось ошибкой то, что ему так долго сохраняют жизнь. Зачем я думаю за них? Видимо, это просто глупая привычка все рассчитывать.
Сколько пробыл писатель в тюрьме он не знал, а ему так и не соизволили сказать. По ощущениям прошло по меньшей мере три недели. Но это только то время, что Филипп был в здравом духе и памяти. Сколько дней сожрала паучиха – никто не знал. Каждый раз, когда писатель намеревался начать записывать дни своего заточения хоть где-нибудь, ему что-то мешало, и он благополучно забрасывал идею в дальний ящик. Однажды он даже действительно записал дату, но потом благополучно потерял лист. Ему, само собой, казалось, что это все злостные козни охранников, что именно они вероломно украли обрывок бумаги с записями, чтобы смутить несчастного узника, но никаких обличающих доказательств этому факту Филипп так и не обнаружил, потому и идея постепенно сошла на нет, ведь француз не был склонен к разного рода придумкам. Пожалуй, в этих холодных стенах, подобные злоключения были единственным развлечением писателя.
Спустя пару дней серые будни Филиппа озарило новое интересное событие, а точнее новый заключенный. Обычными завсегдатаями местных тюрем были мелкие преступники, в основном воры. Выглядели все под стать: худые, немытые, неухоженные. Едва завидев такого на улице сразу становиться понятно – жди беды и лучше перейди на другую сторону дороги. Потому в какой-то момент Лавуан попросту устал от однообразной внешности, поведения и диалогов. Казалось, эти люди совершенно неспособны предложить ничего нового, и писатель все больше замыкался в себе. И вот в один из таких серых вечеров, когда наш герой карпел над очередным своим текстом, а его соседи шумно во что-то играли неподалеку, тяжелая железная дверь, отделявшая заключенных от желанной свободы, отворилась и в коридоре стали слышны две пары шагов: одни были понятны сразу – тяжелые, с прихрамыванием на правую ногу, принадлежавшие старшему грузному тюремщику – вторые же были едва различимы – маленькие каблучки аккуратно цокали по разваливающейся плитке, владелец будто слегка подпрыгивал при ходьбе, отчего звук был таким же неровным. Филипп повернулся, заинтересовавшись гостями. Мужчина вел девочку лет десяти – одиннадцати. Хоть он и шел не быстро, в силу своей неспортивной комплекции, она едва за ним поспевала. Может ей мешало не впору длинное выцветшее розовое платье, волочившееся по полу, может неудобные белые туфельки или растрепанные рыжие волосы, которые так и норовили лезть в глаза – неясно. Ясно было другое – с девочкой что-то не так. Походка была шаткой, будто она не могла полноценно устоять на своих двоих, улыбка ее была невероятно противной – два резца были слишком большими, а другие зубы хаотично отсутствовали, отчего создавалось ощущение полупустого рта. Вишенкой же на торте выступало отсутствие носа. Вместо него красовались две дырки, которые должны были быть ноздрями. Но странной была не только и не столько внешность девочки, сколько ее поведение. Улыбка, не сползающая даже в такой стало быть страшный момент ее жизни, пустые, наполненные каким-то блаженным светом, глаза, бегающие из стороны в сторону и пытавшиеся, казалось, осмотреть все, что только возможно, но не фокусирующиеся ни на чем конкретном, и странные хаотичные движения – все это отталкивало от юной особы.
– Вот, – пробормотал охранник, открывая дверь камеры, – теперь это твой новый дом. Пусть и ненадолго, но ты обоснуешься здесь.
– Фпафибо, мфье охфанник, – девочка вприпрыжку влетела в новые апартаменты. – Ховофево