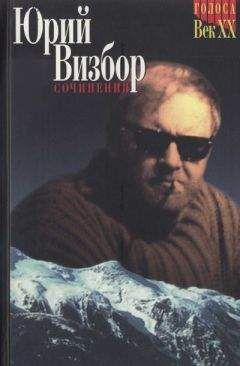— Не сомневайтесь, совершенно точно. По западному сектору сейчас вообще начинается непрохождение, но они, видать, цепляются к зимовочной антенне. Так что слышал точно. Калач так и сказал: все на борту.
— И радист?
— Я специально, Виктор Ильич, переспросил, он говорит: и радист, куда ж ему деться?
— Выходит дело, что Калач ходил за ним по циклону?
— Выходит, так, — сказал Кобзоруков. — Не святым же духом он перенесся на девяносто миль! Я бы перекинул Калача на вас, но слышно было ужасно, а сейчас вообще ничего нет. Молоко.
— А как со Шпаком дела? — спросил Виктор Ильич.
— Шпак молчит.
— Уже пятый сеанс?
— Шестой сеанс молчит.
— Я всю ночь у себя, — сказал Виктор Ильич.
Он положил трубку, вычеркнул на численнике слово «Калач», около которого стоял вопросительный знак, и ниже написал: «Шпак?» Прорвались синоптики с картами. Циклон шел с запада на восток, на фотографиях, полученных со спутников, четко была видна его раскручивавшаяся спираль. Там вздымались миллионы тонн снега. Там сшибались со страшным криком ледовые поля. Там заново творился мир.
Виктор Ильич достал из шкафа спальный мешок и бросил его через весь кабинет на диван. За окном стоял адский шум — с неба на землю протянулись крученые канаты воды, и их концы яростно стегали по асфальту. Молнии кривыми деревьями рассекали темноту. По телевизору передавали футбол из Вены. Через разбитое стекло парашютировали крупные капли, покрыв блестящей оспой натертый паркет под окном…
…Воденко стал уже злиться — две минуты дергал Калача за плечо, приговаривая: «Товарищ командир!», но все безрезультатно. Калач спал, а эфир у Воденки стоял. Наконец он так затряс командира, что тот открыл глаза, повернул красное со сна, опухшее лицо и спросил:
— Чего?
— Вас к связи, товарищ командир!
Калач, чертыхаясь, натянул унты, завернулся в полушубок, вылез из палатки, зажмурился. В зеленом небе пылало солнце, мир был только что вынут из купели. В кают-компании, за откинутым пологом входа, Бомбовоз почему-то возился с противнем, чистил картошку, а Сахаров писал. Калач отхлебнул какого-то чая из кружки, стоявшей на столе, взял микрофон, хрипло сказал:
— Слушает вас Калач.
Осточертели эти переговоры с Москвой!
— Здрасьте, Михаил Петрович! Гурьев вас беспокоит.
«Гурьев? Какой Гурьев?» Калач нахмурился, со сна не припомнил никакого Гурьева, но на всякий случай сказал в микрофон:
— Приветствую вас, товарищ Гурьев.
— Как у вас идут дела?
— Дела идут постепенно, — сказал Калач, а сам посмотрел на Воденко.
— Это бухта Светлая, товарищ командир! — подсказал радист.
— Товарищ Гурьев?! — радостно воскликнул Калач. — Приветствую вас!
— Еще раз, Михаил Петрович, — сказал Гурьев, — здрасьте! Насилу вас разыскали в эфире! Как вы тогда добрались? Только вы улетели, к нам прогноз плохой пришел, а потом три дня пуржило.
— Добрались хорошо, — сказал Калач и покосился на Бомбовоза.
Тот поймал взгляд командира и усмехнулся.
— Михаил Петрович, — продолжал Гурьев, — коллектив нашей зимовки поздравляет вас с праздником авиации, желает вам больших успехов в личной жизни и в вашей работе! И благодарит вас за то отношение, которое вы проявили к нашим нуждам. Особенно наши товарищи, которым вы жен привезли, сердечно благодарят. Михаил Петрович, вы извините, но у нас тут спор такой вышел: правда, что вы — Герой Советского Союза?
— Правда, — сказал Калач.
— Ну, вот видите, мы так и решили. Еще раз поздравляю вас, Михаил Петрович. Теперь один вопрос: как вас разыскивать? Радиоданные у вас меняются, а мы их не знаем.
— Разыскать меня очень просто, — сказал Калач, — Диксон, Арктика, дом два. Калачу. Вот такой мой адрес.
Гурьев засмеялся, продиктовал кому-то: Арктика, дом два.
— А почему же дом два? — спросил он.
— Потому что дом один — моя машина. Где она — там и я. А дом два — то место, где она сидит. Сел на льдину — тут и мой дом.
— Ну, а постоянный адрес? — спросил Гурьев.
— Это и есть постоянный, — ответил Калач.
А Сахаров сказал:
— Миша, тебя человек серьезно спрашивает.
— А я ему серьезно отвечаю, — ответил Калач, попрощавшись с бухтой Светлой.
— Давай, командир, выметайся отсюда, — рассердился Сахаров.
— А чего это тут у вас, секреты?
— Секреты! — сказал Сахаров.
— Юзик! — не удержался Калач. — Это ты, случаем, не для самоубийства готовишь?
Черт дернул тогда Юзика за язык!
— Отруливай, отруливай, командир! — сказал Бомбовоз. — Для чего надо, для того и готовим! — и попер на командира мощной грудью, потому что руки у него были в чем-то — то ли в масле, то ли в креме.
Секрет раскрылся вечером, когда Сахаров, как начальник проекта, и Юзик, как главный исполнитель, преподнесли Калачу, второму пилоту и штурману торт, изображавший льдину с торосами, на которой, сработанный из шоколадных конфет и моркови, стоял красный вертолет. Кеша Ротальский прочитал стихи собственного сочинения. Лева заводил магнитофон. Весь вечер разрывался Воденко — принимал поздравления в честь Дня авиации. Позвонил и Виктор Ильич, поздравлял, а больше, как казалось Калачу, прощупывал, не согласится ли Михаил Петрович еще сезон на льду поработать, но прямо ничего не предлагал, лишь намеками. В конце разговора сказал, что тут еще один знакомый хочет с ним поговорить. «Кравчук! — подумал Михаил Петрович. — Приковылял старикашка!» Но голос оказался не Кравчука.
— Кто это? — спросил Калач.
— Это я, товарищ командир.
— Санек, что ли?
— Так точно! Поздравляю вас с Днем авиации и еще хочу сказать насчет недоразумения между нами…
Калач засмеялся.
— Хороший ты парень и радист отличный, не было бы в тебе греха — век бы тебя не отпускал. Так что за поздравление — спасибо, а недоразумения между нами кончились.
— Да уж не знаю, товарищ командир, — отвечал Санек из далекой Москвы, из кабинета Виктора Ильича, куда, наверно, напросился вроде бы бывшего командира поздравить, а на самом деле хотел начальству на глаза показаться и что-нибудь пронюхать насчет дальнейшей судьбы. — Не знаю, как за потерю откупиться, — продолжал Санек, — когда я на Ли Смитте от медведя бегал…
— Ладно, — великодушно сказал Калач, — нашел о чем вспоминать!
— Он из кармана выскользнул, когда я уже вниз бежал…
— Да ладно! — сказал Калач. — Ты-то сейчас где?
— Не знаю, — неуверенно ответил Санек.
— Здесь он, здесь, — строго вставил Виктор Ильич, но так ничего и не разъяснил.
Калачу вдруг стало жалко своего бывшего радиста, он ясно вспомнил его мелкую, полублатную фигуру, вспомнил, как ударил его на острове Ли Смитта, ударил зло. Хорошо, что тот был в шлемофоне. «Педагог!» — подумал о себе с усмешкой Калач.
— Ладно, Санек, — сказал Калач, — раньше мы с тобой говорили: «Была бы связь, все остальное приложится». Теперь, наверно, надо уже говорить по-другому: «Была бы честь…»
«Старею», — подумал он, выйдя из палатки. На воле чистенько пыхтел движок по вечной арктической тишине. Зеленоватые льды, оранжевые по краям от незаходящего низкого солнца; снежницы, наполненные вытаявшей из снегов водой такой голубизны, что цвет этот вызывал в памяти неправдоподобные краски швейцарской полиграфии; кисейные линзы облаков, то желтых, то розовых, то голубых на голубом небе; воздух такой резкости и свежести, что тоска даже подумать о каких-нибудь других воздухах. Арктика, радость моя!
«Старею, — подумал Калач, — в прошлые времена с этим подлецом, который за три канистры спирта чуть не загубил нас, и слова бы не сказал, теперь — жалко. Да и жизнь прошла. Клавы нет, дети одни растут, как подорожники, друг любимый Николай Федорович на пенсию курс взял, да и сколько ж летать-то можно, в собачьем мешке спать в вертолетном углу? Осенью и он уйдет… Радиста нового прислали — так тот ни о чем, кроме как о деньгах, разговаривать не может… Пора и мне подаваться на трассу Домодедово — Внуково. Два шестьдесят билет. Свое отработал, что надо — заслужил. В войну — Героя, после войны — заслуженного летчика-испытателя. И на обоих полюсах ручку газа в форсажное положение приводил, и по Европе погулял, и в Индии работал, и из Перу пончо чудное привез. Все. И учеников, главное, кое-кого вскормил. Все. На пенсию мог уйти еще три года назад, с этим — полный порядок».
Тут на память пришел один крепкий вечер в сорок третьем году на Аляске, на окраине города Нома, где находились стратегические склады американской армии. Они, будто полукруглые гусеницы, были совершенно бесконечны и уходили в пурге, по мнению младшего лейтенанта М. П. Калача, куда-то к горизонту. Служил тогда Калач в перегонной команде, гонял и «бостоны» как правый пилот у Якова Киреича Минина, потом гонял и «аэрокобры». Ном — Якутск — Красноярск — фронт… Застряли как-то в непогоду. Ребята говорили, что американцы — слабаки: нафугуют содовой шипучей воды в стакан… Но этот долговязый, пригнавший из города Сиэтл с заводов «Боинг» свой «бостон», был настоящий боец. Какой-то, помнится, барак не барак, из гнутых алюминиевых листов стены и раздвижные стулья, на которых удобно не усядешься. Калач вскоре обнаружил, что остался он один защищать честь летного подразделения перед каким-то долговязым капитаном американских ВВС, который прилично шпарил по-русски. Самый главный разговор пошел у них на тему «что у кого есть».