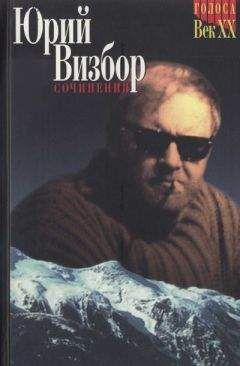— А у вас Бьелий дом эст?
— Есть! — отвечал Миша. — У нас даже лучше — Кремль есть!
— А у вас бэнк эст?
— Есть! — ответил Миша. — У нас даже сберкассы есть!
В ходе разговора выяснилось, что все, что имелось в Америке, имелось и в России, и, соответственно, наоборот. На чем взял Миша американца — это на Дне авиации. Дня авиации в США не было.
— Ньет! — признался американец. — Днья авиэйшен ньет!
Он вынул из кобуры свой «кольт» и отдал Калачу. Миша подарком не побрезговал, взял. Так и прошел с ним всю, почитай, жизнь этот дурацкий подарок. Пускал Калач его в дело дважды, и обе причины были серьезные: первый раз восьмого мая на фронтовом аэродроме возле города Новый Тарг, когда пришел конец войне. В другой раз этот «кольт», можно сказать, спас ему жизнь: в Мишу стреляли, и он стрелял. Было и такое. И вот маленький кривоногий пьянчужка обронил его неизвестно где! Калач даже плечами передернул от неудовольствия. Нет, все! Надо завязывать с летной работой. Ну, если не с летной работой, то с Арктикой, во всяком случае.
Тут потянуло на Калача привычным дымком трубочки «Данхилл».
— Ну что, Николай Федорович, — сказал, не оборачиваясь, Калач, — прошла наша жизнь?
— Не совсем, Миша, не совсем, — ответил штурман.
Старик раскраснелся, ломаные бордовые ниточки сосудов обнаружились на щеках.
— Санек звонил, — сказал Калач.
— Да, я слышал.
— Поступил я с ним нехорошо, — добавил Калач. — Что-то даже такой ярости в себе и не припомню.
— А я, Миша, — сказал штурман и даже вынул трубку изо рта, — не припомню такого зверства, чтобы в Арктике у действующих машин антиобледенительную жидкость выпивали. Это все равно что кровь выпить.
— Такое впечатление, что время изменилось, Николай Федорович, — мрачно сказал Калач. — Пока мы с тобой тут на льдинах сидим, как законсервированные, там, на Большой земле, кое-что меняется. И бацилла постепенно сюда пробирается.
— Если уж, Миша, разговор зашел, я тебе скажу! — Тут глаза старого штурмана блеснули огнем, сутулая спина распрямилась, что бывало, надо сказать, не каждый день. — Я в эти басни насчет того, что Арктика — заповедник мужества, не верю. Я в Арктике летаю со времен Аккуратова. И святые здесь бывали, и подлецы. И за деньжищами приезжали, и за наградами, и от семейных неудач скрывались. И бежали отсюда без оглядки, и рвались сюда, как к любви единственной. У нас привыкли: ах, полярник — это уж одно вроде как медаль «За отвагу». А я таких мерзавцев здесь видел, что теперь стыдно, что за одним столом сидел!
— Да дело не в этом, — возразил Калач.
— Конечно, дело не в этом, — подтвердил штурман. Он поджигал топку своей трубки, табак разгорался с сердитым шипением и потрескиванием. — Дело в том, что это уж нам попался зверь из зверей. Убийца — и то лучше.
— Чем же? — удивился Калач.
— У него цель есть. У этого нет ничего. Подвернулся случай — так поступил, не подвернулся бы — все хорошо…
Они помолчали, глядя на летние льды.
— Все же, — сказал Калач, — от этого случая что-то нехорошее в душе осталось. Сам я вроде в грязи выпачкался. Вроде на одну ступеньку с ним встал… Это я тебе говорю, как старшему товарищу своему, — добавил, почему-то смутившись, Калач.
— Все! Забыли про это! — сказал Николай Федорович. — Я вообще-то, командир, хотел с тобой поговорить о другом.
Николай Федорович назвал Калача командиром. Несмотря на двадцатилетнюю дружбу, именно этим словом делил он их отношения, разговоры, обязанности.
— Тут мне официальный запрос пришел из управления. Просят еще немного поработать на Севере. За подписью Рассадина. Ну, я решил ответить им «добро».
Михаил Петрович остро глянул на своего штурмана.
— Ты ж на пенсию собирался? — спросил он.
— Да, — ответил штурман.
— Тебе много лет, ты устал.
— Да, — ответил штурман и отвернулся.
— У тебя сын дачу построил в Перхушкове.
— Да, и клубника растет.
— Так в чем же дело?
Здесь Николай Федорович повернулся к командиру и посмотрел на него странновато, даже, можно сказать, необыкновенно.
— А потому что, Миша, — сказал он, — мы с тобой опоры здесь.
— Где? — спросил Калач. Понял, конечно, но хотел подтверждения такой мысли.
— Где? — передразнил штурман. — Здесь. В Арктике.
Михаил Петрович засмеялся и вдруг шлепнул своего штурмана по сутулой спине так, что тот дымом поперхнулся.
— Ты что?! — возмутился он.
— Опора! — смеялся Калач. — Что-то опора больно гнутая!
— За одну гнутую две негнутых дают! — ответил штурман. — Ну, так что?
— Что — что? — не понял Калач.
— Я тебе в экипаже не помешаю? Только ты не стесняйся, если врать будешь — увижу. Работы на следующий год, сам знаешь, какие. Если думаешь, что старик уже не тянет, — скажи, я правды не боюсь.
И посмотрел голубыми детскими глазами прямо в душу пилоту.
— Счастлив буду, Николай Федорович, — ответил Калач, почему-то переступив с ноги на ногу.
— Правда, Миша, возьмешь меня?
— Возьму. Беру. Да что вы, в самом деле, Николай Федорович?! Постыдились бы спрашивать об этом.
— Раньше постыдился бы. Теперь — старый. Спрашивать надо… Тогда, когда трясло нас в этом обледенении у Ли Смитта, в первый раз подумал: все! Так обидно — из-за пьянчужки, мелкой души… Я ведь даже внука младшего не видал…
Николай Федорович мотнул головой, будто отгонял от памяти те страшные секунды.
— Значит, договорились?
— Вопросов нет, — сказал Калач.
— А может, ты сам за спину смотришь? По курсу сто восемьдесят?
Калач честно округлил глаза.
— И мыслей таких не было.
Николай Федорович кивнул. Поверил.
АЛЬТЕРНАТИВА ВЕРШИНЫ КЛЮЧ
Лично себя Володя Садыков никогда красавцем не считал, потому что вообще не думал на эту тему. Не то что бы не думал, но не обращал внимания на этот вопрос. В седьмом, кажется, классе, правда, поглядывал в зеркало, которое было прикреплено четырьмя гнутыми пластинами постаревшей жести к стене умывальной комнаты, крашенной зеленой пупырчатой краской. Однажды из зеркала на него глянуло лицо, в котором он увидел не то, что привык видеть всегда, — не четвертого номера волейбольной команды детдома, и не будущего (несомненно!) военного моряка (впоследствии командира корабля, сочиняющего между трудными штормовыми походами стихи), и не тайного лидера двух классов, за которым всегда последнее слово. Он увидел лицо уверенного человека, и его глаза, будто глаза кого-то другого, глянули из мелкого зеркального стекла прямо в душу Володе. И как раз уверенным было не то, что можно назвать выражением лица, а само лицо, его композиция, взаимное расположение частей, весь смысл его, сказанный в азиатских скулах и серых славянских глазах. И создано было это лицо явно для летания, рассекания воздуха, воды и всех стихий. Это также было очевидно. Впрочем, при этом ощущении не присутствовало никаких словесных форм. Все эти чувства, догадки, пророчества, предчувствия мелькнули в малую секунду, когда воспитанник Садыков поднимал мокрую голову от умывальника, намереваясь разглядеть, подсохла ли за ночь ссадина на щеке. Сзади другие толкались, плевали на ладони, приглаживали то вихры, то курчавости, то прямые волосы, не желающие ложиться волной. Показалось ли свое лицо Садыкову красивым? Не знаю, не уверен. Вряд ли Володя смог применить такой термин по отношению к самому себе. С молодых лет был строг. К разговорам о мужской красоте относился как к чему-то несерьезному, пустому, слабому. Уверен был, что мужчину украшают мышцы. Потом и от этого мнения отошел, только плечами пожимал, когда девушки говорили ему, что он красивый, — не хотел на эту тему говорить, не видел прока. Когда наблюдал у молодых людей всякие женские чудеса — платочки на шее, перстни, волосы длинные (иные тайно завитые бигудями), — зверел Садыков, плевал в горячий асфальт.
Хоть и жил Володя одиноко, никого на руках не держал — ни больных сестер, ни алкоголиков-братьев, хоть никогда не переживал из-за квартиры — все в общагах (то в ПТУ, то на подвесной койке над торпедой в подводной лодке, то в рабочем общежитии после флота), все же всегда страдал он через свою доброту и от общего несовершенства своей жизни. Кто ни попросит — всем помогает. Даже пионеры хомутали его, и он почти год в свободное время строил им какие-то загоны для пионерского зверья; до того замотался, что едва успел за тот год отработать одну смену в альплагере. Сохли по нему девушки из всех климатических районов страны, однако по-человечески Садыков, конечно, влюбиться не мог — влюбился в замужнюю, да еще муж у нее кандидат наук. Хоть и был Володя к тому времени уже бригадиром, и с квартирой был, и с деньгами, и по всем статьям хорош, даже стихи сочинял, что представлялось вообще верхом всего, не мог он перешибить этого яйцеголового кандидатишку, с ума сходил по своей не слишком-то огневой Марине, да и не любила она его по-настоящему, так, для баловства любовь ей эта, для поддержания формы, как бег трусцой. Чтобы выяснить все это, понадобилось много времени, много. Садыков и мастера «закрыл», и на два семитысячника сходил — на Корженеву и Победу, и такие девицы в альплагерях под окном его инструкторской на холодном ветру стояли, накинув на гимнастические плечи мягкую пуховку, что синеглазый архитектор Саша Цыплаков сквозь зубы восхищался: «Плевать в мои карие очи!» Саша, гибкий, как ящерица, в команде Садыкова «закрывал» скалы, сам Капитан с Русланом Алимжановым — лед и снег. Четвертыми в команде ходили разные, не все удерживались у Садыкова, не все. Так, на первый взгляд вроде капитан как капитан — высоченный красавец с руками, которые не грех бы назвать «шатуны». В альпинизме таких немало. Пьянку преследовал — так это и таких много, не терпящих, не он один. И внизу, в лагере, вроде человек. Но на горе — зверь зверем, педант, придира: чуть что ему не так — желваками играет, и огонь желтый в глазах возгорается. И чтобы у него перед выходом все точили кошки как сумасшедшие; и чтобы без подстраховки никто не перестегивался; и чтобы команды на стене подавались, не как душа велит, а как положено; и чтобы крюк забивался до серебряного звона и пения (потом замыкающий шепотком каждый крюк материт, выбивая его из скалы). И никаких галош, никаких бросков «на хапок» через лавиноопасные кулуары и никаких обсуждений его приказов. Да кто же это выдержит? Зверь, чистый зверь! Нет, ты лучше обругай, крикни, а не смотри таким взглядом, от которого кожа гусиными пупырышками покрывается! А на равнине, в лагере, честное слово, нормальный, даже приятный парень. Только все время говорит: «Я никого не хочу хоронить». Как будто он один печется о технике безопасности, а другие вроде дурачки-простофили, и у них народ с горы пачками валится. Смех и только на этого Садыкова!