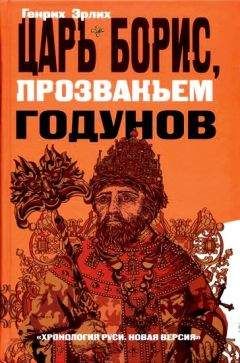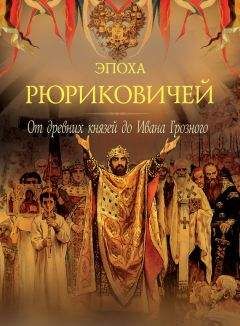Шуйский (продолжая сосать). Да, ничего себе банька, живет!
Воротынский (повалившись на низкую, широкую с персидскими коврами и пуховыми подушками, скамью). Эх, жаль, не зима, вот бы когда на снежку поваляться! (Закрыв глаза, как в блаженном видении). Прыг с полки, да, благослови Господи, в сугроб; покатался, повалялся, и опять в пар – жги, поддавай, да веничком березовым, с мятою, свежий дух, что в лесу, – рай! Да эдак разов пять… Эх, любо. Так тебя всего разберет, такая истома польется по всем жилкам – суставчикам, что молочко польется теплое, унежит, истомит, – и бабы на постель не надо!
Шуйский. Что бабы? С ними только грех, души погибель вечная, а банька дело святое. По писанию: «Oмойтесь банею водною во глаголе».[18]
Воротынский (открывая глаза). А ты все, Иваныч, сосешь?
Шуйский. Сосу, батюшка, сосу!
Воротынский. Камень безоар?
Шуйский. Он самый.
Воротынский. От яда пользует?
Шуйский. От яда и от всякого недуга чревного. Царь Иван – упокой Господи душеньку его – с собственной ручки пожаловал, папа римский ему с дарами прислал, a папе – царь эфиопский. Камень тот у птицы Строфил[19] во чреве живет, и бегает та птица по великим пескам так борзо, что на коне едва угонишь. Камешком тем от многих ядов царь Иван отсосался.
Воротынский. И ты яду боишься?
Шуйский. Знаешь сам, сколько у Шуйских приятелей. Неровен час, и подсыплют.
Воротынский. Кушать на Верху опять изволил?
Шуйский. Как быть? Ласков ко мне царь, все столом жалует. А стрепня-то на Верху жирная. Подали вчера оладушек инбирных в меду. А царь все потчует: «Ешь, Иваныч, ешь, не обессудь!» Ну, от царской хлеба-соли не откажешься. С этих-то самых оладушек, чай, все меня и мутит, изжога да резь. Банька, думал, поможет, – нет, не легче. Вот и отсасываюсь.
Воротынский встает, подходит к Шуйскому, присаживается и говорит ему на ухо.
Воротынский. Ой, берегись, князенька, так тебя Татрин[20] употчует, что и ноги протянешь.
Шуйский (указывая глазами на дверь). Ш-ш-ш…
Воротынский. Э, полно, Иваныч, банщики твои, рожи калмыцкие, только и знают, что «пар» да «веник». А те двое бояр, небось, люди надежные. Да и сам ты в баньке любишь советовать; в пару-де, что на духу, все нагишом, как перед Богом!
Шуйский. Так-то так, да и бревна в стенах слышат…
Воротынский (подойдя к двери, прислушавшись и притворив ее плотнее). Им не до нас. Ишь, хлюпают, сердечные! Как бы не запарились до смерти. (Вернувшись на прежнее место). Слушай, Василий Иваныч. Знает царь Борис: как род Иоаннов пресекся, не Годуновы, Малютина челядь, Ордынские выскочки, а вы, Шуйские – благоверных царей наследники, понеже Рюрика святая кровь в жилах ваших течет. Рано ли, поздно ли, а быть царем на Москве Василию Шуйскому! Вот он к тебе и ластится, змей. Спит и видит, как бы тебя извести. Да поздненько хватился: сам-то словно крыса отравленная ходит. Имя царевича Димитрия услышит – так и вскинется весь, потемнеет в лице, глаза куда девать, не знает. Вот я на него, пуще всякого зелья!
Шуйский (задумчиво). Нет, крепок, ништо ему, отдышится!
Воротынский. Крепко яблочко, пока червяк внутри не завелся. Коли имени одного боится, что будет, как явится сам?
Шуйский. Мертвые из гроба не встают…
Воротынский. В судный день встанут и мертвые! А Борисов день близок. Грамоты Литовские читал? В Кракове все уж говорят, что сын попов убит в Угличе, а не царевич, жив де он и объявится.
Шуйский. Брешут ляхи, кто им поверит? Да и нам до Литвы далече. Вот кабы здесь, на Москве…
Воротынский. Ну. а кабы здесь, можно бы за дельце взяться, можно бы, а?
Шуйский. Что гадать впустую…
Воротынский. Не впустую. Сказывал намедни крестовый дьяк Ефимьев: двух чернецов забрали в шинке; один говорил: он-де спасенный царевич Димитрий, и скоро объявится, будет царем на Москве.
Шуйский. Мало ли, что люди с пьяных глаз по кабакам болтают. Вырвут им языки, плетьми отдерут, и дело с концом.
Воротынский. Воля твоя, Иваныч, только смотри, может, счастья Бог тебе посылает, а ты брезгаешь…
Шуйский. Коли от дураков счастье?
Воротынский. Эх, батюшка. Русь-то вся на дураках стоит! Ну, один-то чернец и впрямь дурак, забулдыга, пьянчужка, а другой – паренек вострый, и жития постного, от роду вина в рот не брал, да видно бес попутал. От него польза может быть.
Шуйский. Ты-то сам их видел?
Воротынский. Нет, Ефимьев сказывал.
Шуйский. Знает царь?
Воротынский. Не знает, еще и не пытали, как следует. Слушай-ка, Иваныч, хочешь, велю их прислать? Чем черт не шутит? Ну-ка, пощупай!
Шуйский, глубоко задумавшись, наливает ковш меда, медленно подносит ко рту и, не выпив, ставит обратно на стол.
Воротынский. Ну, так как же, отец, прислать?
Шуйский. Пришли, пожалуй. Ин быть по-твоему: чем черт не шутит!
Воротынский (встает, наклоняется и благоговейно, как святую икону, целует Шуйского в лысину). Премудрость! (Указав на флягу). Это что?
Шуйский. Клубничная.
Воротынский (налив две чарки и подавая одну Шуйскому). Ну-ка, батюшка, выкушай, полно камень сосать! (Крестится). Благослови, Господи! За здравие и благоденственное житие царя Василия Ивановича Шуйского! (Выпив чарку до дна одним духом и грозя кулаком). А ты, Борис Федорович, коли этого зелья хлебнешь, никаким безоаром не отсосешься!
Дверь в баню открывается, и оттуда выскакивают, голые, красные, как ошпаренные, Мстиславский и Репнин. Клубом валит пар, сгущается в белое облако, и мелькают в нем золотые маковки церквей, зубчатые стены Кремля, терема, хоромы.
Утренний луч солнца, сквозь круглые, в свинцовом переплете, грани оконной слюды, попадает на обитую голландской кожей стену, захватывая лысину Шуйского. Он сидит за столом, что-то пишет.
В дверь постучали. Вошел дьяк Ефимьев, поклонился в пояс.
– По твоему, боярин, приказу, двух с Патриаршего двора колодников привели.
– Ладно, веди их сюда, – сказал Шуйский, не отрываясь от письма.
– Обоих?
– Нет, одного, молодого.
Два стрельца с обнаженными саблями ввели Григория. Руки у него были связаны, на ногах кандалы.
По знаку Шуйского кандалы сняли, развязали и руки. Стрельцам было ведено выйти. Шуйский подошел к двери. запер ее поплотнее и вернулся на прежнее место. Несколько времени они молча смотрели друг на друга. – Григорий – на пороге. Шуйский за столом.
– Подойди
Григорий сделал два-три шага. остановился.
– Ближе, ближе. Кто ты таков?
– Чудовской обители инок Григорий.
– Роду какого?
– Галицких детей боярских Смирных-Отрепьевых.
– Живы отец-мать?[21]
– Померли.
– Есть родня?
– Был дядя, тоже помер.[22]
– Значит, сирота?
– Кроме Бога, никого.
– Зачем в монахи пошел?
– Душу спасать.
Помолчали. Шуйский заговорил.
– Слушай, Григорий, мне тебя жаль. Чудовский о. игумен пишет, что был-де ты всегда жития доброго, что ж это тебе попритчилось? Как тебе в ум вступило, будто ты – царь на Москве?
– Сам не знаю, – глухо проговорил Григорий. – Морок бесовский. Чай и от вина. Отродясь не пил. А как первую чарку выпил, ума исступил, что говорил – не помню.
Шуйский поглядел на него ласково, покачал головой.
– Ну-ка, вспомни… Было тебе какое виденье?.. Эх, дурачок! Аль не видишь, что я тебе добра желаю? Может, и вызволю. Только все говори, запрешься – прямо отсюда в застенок. Там тебе язык-то сразу не вырвут, а сначала плетьми, да каленым железом развяжут. Так уж лучше добром, Ну-ка, сказывай, было видение?
– Было, – вымолвил Григорий.
– Какое?
– Лестница, будто крутая… и я по ней всхожу. Все выше, да выше, а внизу Москва… народ на площади… Я как сорвался, да полетел – и проснулся.
– А лестница куда?
– На… на башню.
– Ой ли? Не на престол ли царский?
– Да, будто и на престол.
– А на нем ты?
– Я.
Опять молчание.
– А что царевич Димитрий, может, жив, – начал Шуйский, – что другого младенца зарезали, – слышал о том?
– Слышал.
– И верил?
– Коли верил, коли нет.
– А теперь?
Григорий бегло, исподлобья взглянул на Шуйского. Проговорил медленно:
– Теперь как скажешь, так и поверю.
– Ишь какой прыткий, – засмеялся боярин. – Хочешь на меня взвалить? А, может, и я… коли верю, коли нет…
Впился в него долгим взором. Молчал. Такая тишина в покое, что слышно было, как муха жужжит, бьется на оконной слюде.