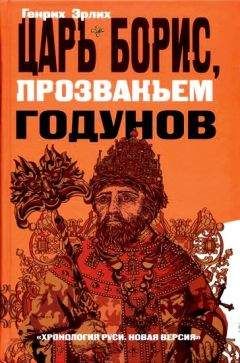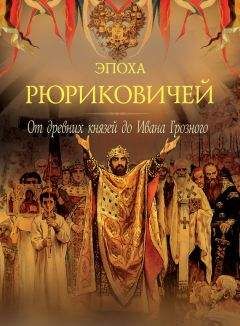Григорий бегло, исподлобья взглянул на Шуйского. Проговорил медленно:
– Теперь как скажешь, так и поверю.
– Ишь какой прыткий, – засмеялся боярин. – Хочешь на меня взвалить? А, может, и я… коли верю, коли нет…
Впился в него долгим взором. Молчал. Такая тишина в покое, что слышно было, как муха жужжит, бьется на оконной слюде.
Шуйский поднялся. Подошел к Григорию, взял его за руку, подвел к окну. Лицом к самому свету повернул, вглядывался, даже рукой по волосам провел, и зашептал тихо, будто про себя: «Жесткие, курчавые, рыжие, с подрусиной, очи голубые, в прозелень, да чуть-чуть с косиной, и на щеке бородавка, точка в точку. Что за диво! Ну-т-ка, ворот раскрой маленько!»
Григорий отшатнулся, прижал руку к вороту, но Шуйский отвел руку, откинул ворот и ахнул.
– Родинка! Родинка! На том самом месте, как раз! Что ты, что ты на меня так смотришь? Что дрожишь?..
Григорий и впрямь дрожал. Шуйский, отступив на шаг, не сводил с него взора.
– Кто ты таков?.. Кто ты таков? Откуда взялся? Али и впрямь…
Снова подошел ближе, совсем близко, лицом к лицу, руки на плечи положил и чуть слышным шепотом: «Димитрий Иванович, Димитрий Иванович. – ты?»
Григорий, с широко открытыми глазами, сделал шаг назад, пошатнулся, хотел схватиться за стол, но вдруг, с тихим стоном, опустился на пол без чувств. Шуйский поглядел на него с брезгливой усмешкой: «Эх, баба! Ну куда такому в цари?»
Пошел, однако, к поставцу, налил из кувшина квасу в ковш. Отхлебнув, стал прыскать в лицо Григорию, мочить виски. Григорий открыл глаза.
– Пей, пей, – поднес ему Шуйский ковш ко рту, приподнимая голову. – Да чтой-то опять с тобой содеялось? Часто ли так? Уж не падучая ли, оборони Боже, как у… того? Ножичком-то, слышь, играючи, младенец в падучей зарезался…
Григорий сидел теперь на полу и, закрыв руками лицо, всхлипывая, повторял: «Ох, не могу… Не мучай меня. Христа ради, отпусти… Лучше в застенок, каленым железом, чем так…»
– Что ты, что ты, сынок… – хлопотал вокруг него Шуйский. – Все ладно, отпущу сейчас. Ну-ка встань, дай помогу, вот так. Отдохни.
Он хотел, было, усадить его, но Григорий, совсем очнувшись, провел рукой по лицу и проговорил твердо:
– Ты прости, боярин. Я, кажись…
– Ништо, ништо, родной. – прервал Шуйский. – Все ладно, отпущу сейчас, только вот допишу…
Быстро дописал письмо, запечатал.
– Грамотку отдай отцу игумену. Небось, никто тебя не тронет. Три денька поживи в обители, а я погадаю, подумаю: может, совсем отпущу, а, может, опять позову…
Вдруг сдвинул брови и другим, изменившимся голосом. строго приказал:
– Только смотри у меня, смирно сиди, ни шагу никуда из кельи, три дня! Слышишь? Понял?
– Понял.
Шуйский подошел к двери и кликнул Ефимьева.
– Инока честного Григория в Чудов отвези и сдай отцу игумену с рук на руки. Инок сей честной неповинен ни в чем, злые люди поклеп на него взвели. Смотри же, чтоб никто ему обиды не чинил. Ты мне за него головой отвечаешь.
– Слушаю. А с другим как же?
Шуйский немного подумал.
– И того отпусти, – решил он. – Ну, ступайте с Богом.
Григорий, поклонившись боярину в землю, собирался выйти, когда тот остановил его.
– Стой, погоди.
Отвел Григория в сторону, обнял, поцеловал в голову, перекрестил: «Храни тебя Господь!» А на ухо, шепотом, прибавил:
– Веришь, что Богу все возможно?
– Верю, – прошептал и Григорий.
– То-то, верь. Как знать, сон-то, может, и в руку. Чем черт не шутит. Ну, с Богом, ступай, Гришенька-Митенька…
Келья в Чудовом монастыре. Спят: Григорий на подмощенных досках, Мисаил на постелюшке, на полу. Мисаил громко храпит. В окошечке чуть брезжит первый рассвет. Григорий вдруг вскидывается, садится на постели, прислушивается. Тишина, только иногда далекие сторожевые крики. Григорий ложится опять, но тотчас совсем вскакивает, откидывает изголовье. Вся сцена идет громким и чрезвычайно быстрым темпом.
Григорий. Отец Мисаил! Отец Мисаил!
Так как Мисаил не просыпается, он толкает его в бок.
Мисаил. Чего? Чего? Святители, угодники! Ни в чем я неповинен!
Григорий. Да проснись, отец, я это! Кто в келью входил, ты видел?
Мисаил (протирая глаза). Свят, свят, свят! Никого не было. Кому в обители быть?
Григорий. А узел-то у меня под головой откуда взялся? Ты, что ли, положил?
Мисаил. Какой узел? Царица Небесная, и то узел! А в узле-то что?
Григорий. А я почем знаю? Подкинуто что-то.
Мисаил. Ты погляди. Мне чего страшиться, не мне подкинуто.
Григорий (с опаской развязывая узел). Платье мирское… кафтан… Отец Мисаил, мешок. А в мешке-то казна!
Мисаил (машет руками). Зачурай, зачурай! Искушение велие! Нечистая сила это строит под тебя! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. Перекрестил мешок? Ну, что? Что оно? Угольками, небось, скинулось? Али чем похуже?
Григорий. Нет, деньга звенит. Золотые. Да постой, тут еще грамота.
Подходит к окошечку, где уже стало чуть светлее, и читает, наклонясь, про себя, пока Мисаил, торопливо шепча молитвы и крестясь, осматривает и трясет мешок.
Григорий (читает тихо). «Наказ… Царевичу Димитрию… уходить тайно в Литву…» «а там будут ему в помощь верные люди… а с уходом сим чтобы не медлить…» (Останавливается). Вот оно что.
Мисаил. Да говори, сказано-то как в грамоте?
Григорий. Никак это… уходить мне. А то плохо будет.
Мисаил. Мать Пресвятая Богородица. Утекли мы единожды от злодеев, так опять они на нас, яко львы. Уходить так уходить, я готов, не сборы собирать, нагрянут еще нечестивые.
Григорий (быстро что то сбираясь, пряча в мешок). А ты-то куда? Про тебя ничего не сказано.
Мисаил (тоже что-то собирает). Как куда? А я и не думаю, куда ты, туда и я. Вместе были в узилище кинуты, и чудесному избавлению вместе подверглись, так теперь, как ты с казной утечешь, мне что одному оставаться, ответ держать? Я уж с тобой, брат Григорий, туда ли, сюда ли, только вон из блата сего смрадного, от ищущих поглотити ны.
Григорий (уже совсем готов). Ну ин тащись, отче, да поторапливайся, уйдем, пока братия не поднялась. Уж свет, к заутрени, гляди, ударят.
Мисаил. Мы тишком, молчком, по стеночке. Как мухи пролетим. Мальчонка бы до ворот не привязался, востроглазый. Митька этот. Как смола прилип, где не можно – вокруг околачивается, теперь чуть и в обители-то привитает.
Григорий. Что ж, он не помеха. К пути же привычный.
Мисаил. Я и говорю. Да и грех младенца отгонять. Шустрый такой, поможливый. Иди, Григорий, смотри, дверь бы не скрипнула. Ну, Господи благослови. Заступница Казанская. Пресвятая Матерь Божия и все святые угодники…
Тихо выходят. В светлеющих заревых сумерках, крадутся по монастырским переходам. Вот они в ограде. Кое-где уже ударили дальние колокола. Когда чернецы подходят к воротам, ударяет, густо, и Чудовский колокол к заутрени. Тут откуда-то выкатывается взъерошенный Митька. Деловито, знаками, показывает, что калитка в воротах отомкнута. Привратник отлучился, на одну минутку: надо спешить. Оглядываясь, путники пробираются к воротам и благополучно выскальзывают за калитку, все трое: Митька, конечно, не отстал, да и не отстанет.
Москва гудит колокольным звоном.
Корчма на Литовской Границе. Григорий мирянином. Мисаил в виде бродяги-чернеца. Хозяйка подает на стол.
Григорий (хозяйке). Это куда дорога?
Хозяйка. В Литву, кормилец, к Луевым горам.
Григорий. А далече до Луевых гор?
Хозяйка. Недалече, к вечеру бы можно туда поспеть, кабы не заставы царские, да сторожевые пристава.
Григорий. Как заставы?
Хозяйка. Да бежал кто-то из Москвы, Господь его ведает, вор ли, разбойник, только всех ведено задерживать да осматривать. А что им из того будет. Будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога. Вот хоть отсюда свороти влево, да бором до часовни, а там уж тебе и Луевы горы. (Смотрит в окно). Вон, кажись, скачут. Ах, проклятые.
Григорий. Хозяйка, нет ли в избе другого угла?
Хозяйка. Нету, родимый, рада бы сама спрятаться…
Мисаил вдруг беспокойно и спешно спохватился, запахивает подрясник, стягивает пояс на животе, озирается по сторонам и лезет тщетно на полати, но срывается; замечает вдруг большую кадку за дверьми, переваливается животом и скрывается за ней. Григорий молча сидит у окна. Входят пристава.