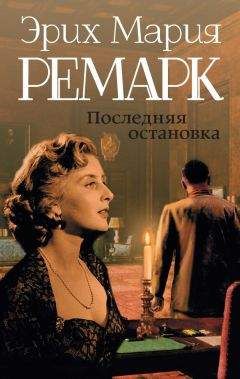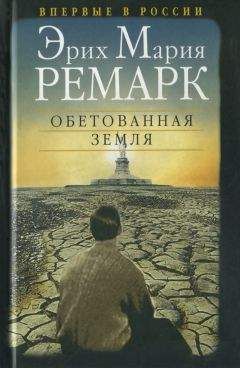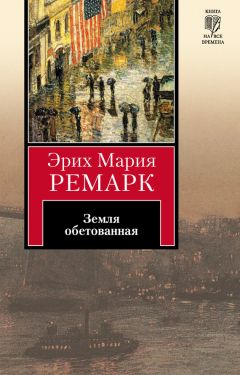Голодный после блэковского коньяка, я с удовольствием его взял. Вторая близняшка подала мне кофе.
– Не бойтесь, – сказал я Коллеру, которого, похоже, мой разыгравшийся аппетит оскорбил еще больше, чем мои слова. – Вы же видите, у меня руки заняты. К тому же я никогда не бью актеров – это все равно что драться с зеркалом.
Я отвернулся – и увидел перед собой Лео Баха.
– Я кое-что выяснил, – прошептал он. – Насчет двойняшек. Они обе пуританки. Ни одна не потаскушка. Это стоило мне костюма. Пришлось в чистку отдавать. Эти мерзавки просто залили меня из своих кофейников. Даже молочниками швыряются, стоит их ущипнуть. Садистки какие-то!
– Это костюм из чистки?
– Да нет. Это мой черный. Другой – тот серый. И очень маркий.
– На вашем месте я пожертвовал бы его музею науки – как пример самоотверженности в эксперименте.
Доктор Боссе, щуплого вида человек со скромной темной бородкой, сидел между продавцом чулок-носков Шиндлером, в прошлом ученым, и композитором Лотцем, который теперь подвизался в качестве агента по продаже стиральных машин. Джесси Штайн потчевала гостя пирожными так, будто он только что закончил курс лечебного голодания. Боссе покинул Германию незадолго до начала войны, много позже, чем подавляющее большинство эмигрантов.
– Надо было языки учить, – сетовал он. – Не латынь и греческий, а английский. Жил бы сейчас куда лучше.
– Ерунда! – решительно не соглашалась Джесси. – Английский ты еще выучишь. А плохо тебе сейчас только потому, что этот эмигрантский выродок подло тебя обманул. Так и скажи!
– Ну, Джесси, случаются ведь вещи и похуже.
– Обманул, да еще и обокрал! – Джесси кипятилась так, что ее рюши тряслись мелкой дрожью. – У Боссе была замечательная коллекция почтовых марок. Самые ценные экземпляры он еще в Берлине отдал другу, когда тому разрешили выезд. На сохранение, пока сам Боссе за границу не выберется. А теперь тот утверждает, что никаких марок в глаза не видал.
– У него, конечно, их конфисковали на границе? – спросил Хирш. – Обычно так все говорят.
– Этот подлец гораздо хитрей. Скажи он так, он бы признал, что брал эти марки, и тогда у Боссе было бы хоть какое-то право на возмещение ущерба.
– Нет, Джесси, не было бы у него такого права, – сказал Хирш. – Расписку вы, конечно, не брали? – обратился он к Боссе.
– Конечно, нет! Это было исключено. У меня могли бы ее найти!
– А у него найти марки, – добавил Хирш.
– Вот-вот. А у него найти марки.
– И обоих вздернули бы, верно? И его, и вас. Потому вы и не брали расписку.
Боссе смущенно кивнул.
– Потому я ничего и не предпринял.
– Вы и не могли ничего предпринять.
– Роберт! – воскликнула Джесси с досадой. – Эдак ты еще, чего доброго, начнешь оправдывать этого подонка.
– Сколько стоили марки? Приблизительно? – допытывался Хирш.
– Это были лучшие мои экземпляры. В магазине я выручил бы за них тыщи четыре или даже пять. Долларов.
– Целое состояние! – распалялась Джесси. – А сейчас ему даже нечем заплатить за экзамены на врача!
– Вы правы, конечно, – сказал Боссе, соглашаясь с Хиршем и даже как бы извиняясь перед ним. – Все лучше, чем если бы они достались нацистам.
Джесси смотрела на него почти с негодованием.
– Вечно это «все лучше»! Почему ты хотя бы не проклянешь мерзавца на чем свет стоит?
– Потому что это не имеет смысла, Джесси. К тому же он брал на себя большой риск, когда соглашался провезти эти марки.
– Нет, я с ними просто с ума сойду! Ну как же не понять, как же не войти в положение? Как по-вашему, стал бы нацист вот так же миндальничать? Да он избил бы этого гада до смерти!
– Мы не нацисты.
– Ну и кто вы тогда? Вечные жертвы?
В своих серебристо-серых рюшах Джесси напоминала сейчас нахохлившегося рассерженного попугая. Слегка потешаясь, Хирш нежно похлопал ее по плечу.
– Ты, Джесси, последняя маккавейка в этом мире.
– Не смейся! Иногда мне кажется, я тут среди них задохнусь!
Она снова доверху наполнила тарелку Боссе сладостями.
– Ешь хотя бы, раз уж отомстить за себя не можешь.
После этих слов Джесси встала, поправляя платье.
– А ты сходи к Коллеру, – посоветовал ей Хирш. – Этот всех поубивает, как только вернется. Он же настоящий неумолимый мститель. У него все записано. Боюсь, несколько лет тюрьмы мне в его списке тоже обеспечены.
– Этот идиот? Единственное, что он сделает, – помчится в ближайший театр за первой попавшейся ролью.
Боссе покачал головой.
– Не трогайте его, пусть спокойно играет в свои игрушки. Это последняя из иллюзий, которую нам предстоит утратить: что в награду за все испытания нас примут дома с распростертыми объятиями и покаянными извинениями. Мы им там нисколько не нужны.
– Это сейчас не нужны. Зато когда с нацистами будет покончено… – начал было продавец чулок-носков профессор Шиндлер.
Боссе глянул на него.
– Я же видел, как все было, – возразил он. – В конце концов, нацисты не марсиане какие-нибудь, что свалились с неба и надругались над бедной Германией. В эти сказки верят только те, кто давно уехал. А я шесть лет слушал восторженные вопли народных масс. Видел в кино эти орущие, раззявленные в едином порыве морды десятков тысяч сограждан на партийных съездах. Слышал их кровожадный рев по десяткам радиостанций. Газеты читал. – Он повернулся к Шиндлеру: – И я был свидетелем более чем пылких заверений в лояльности к режиму со стороны видных представителей немецкой интеллигенции – адвокатов, инженеров и даже людей науки, господин профессор. И так изо дня в день шесть лет кряду.
– А как же те, кто выступил двадцатого июля? – не сдавался Шиндлер.
– Это меньшинство. Безнадежно малое меньшинство. Даже ближайшие коллеги, люди их собственной касты, с радостью отдали их в руки палачам. Разумеется, есть и порядочные немцы – но они всегда были в меньшинстве. Из трех тысяч немецких профессоров в четырнадцатом году две тысячи девятьсот выступили за войну и только шестьдесят против. С тех пор ровным счетом ничего не изменилось. Разум и терпимость всегда были в меньшинстве. Как и человечность. Так что оставьте этому стареющему фигляру его ребяческие сны. Пробуждение все равно будет ужасным. Никому он не будет нужен. – Грустным взглядом Боссе обвел присутствующих. – Мы все никому не нужны. Мы для них будем только живым укором, от которого каждый хочет избавиться.
Никто ему не возразил.
Я возвращался к себе в гостиницу. Вечер у Джесси навел меня на невеселые размышления. Я думал о Боссе, который отчаянно пытался заново построить здесь свою жизнь. В тридцать восьмом он оставил в