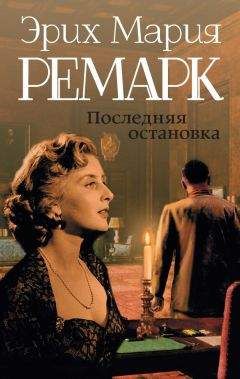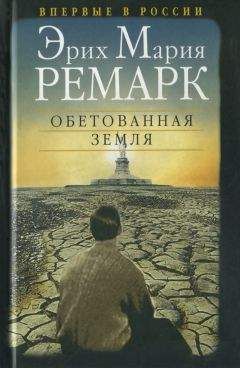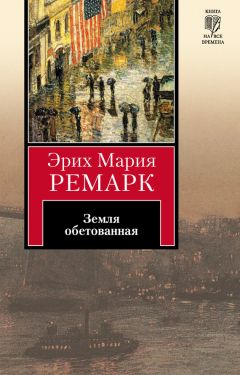эмигрантов понятия о чести, скажу я тебе, – с ума сойти! – Он усмехнулся. – Сходи к Джесси, Людвиг. Я уже был и еще раз пойти не могу – она сразу насторожится. Ей страшно. А утешитель из меня никудышный. Страх других меня только злит, я могу расчувствоваться и начинаю нервничать. Навести ее. У нее сегодня как раз немецкий день. Она считает, что когда больна, не обязательно ломать язык, говоря по-английски. Ей нужна помощь. Участие.
– Сегодня же вечером пойду к ней, как только закончу у Реджинальда Блэка. Кстати, Роберт, как поживает Кармен?
– Обворожительна и непостижима, как всякая истинная наивность.
– Разве бывают женщины, которых можно назвать истинно наивными? Дурочки – еще туда-сюда, но чтобы наивные?
– Наивность всего лишь слово, как и всякое другое. Как глупость или лень. Для меня оно означает некое волшебное царство антилогики, если угодно – полный кич, по ту сторону всяких ценностей и фактов, царство чистой фантазии, чистой случайности, царство чувств, ни капли честолюбия, полнейшее безразличие ко всему, то есть нечто такое, что мне совершенно чуждо и потому меня очаровывает.
Я посмотрел на Хирша с сомнением.
– Ты сам-то веришь тому, что говоришь?
Он рассмеялся.
– Конечно, нет, – потому меня это и очаровывает.
– Ты и Кармен нес подобную ахинею?
– Разумеется, нет. Она бы и не поняла ничего.
– Ты вот сейчас наговорил кучу всяких слов, – сказал я. – Ты что, правда думаешь, что это все так просто?
Хирш поднял на меня глаза.
– Считаешь, я ничего не смыслю в женщинах?
Я покачал головой.
– Нет, я так не считаю, хотя вообще-то для героев вполне естественно ничего в них не смыслить. Победители обычно не слишком в этом разбираются, зато побежденные…
– Почему в таком случае победители считаются победителями?
– По той причине, что понимать что-то – еще не значит победить. Особенно когда дело касается женщин. Это одна из несуразностей жизни. Но и победители, Роберт, тоже не всегда остаются победителями. А простые вещи не стоит без нужды усложнять, жизнь и без того достаточно сложна.
Хирш махнул продавцу в белом халате за стойкой драгстора, где мы доедали свои гамбургеры.
– Ничего не могу с собой поделать, – пожаловался он. – Эти ребята до сих пор напоминают мне врачей, а драгстор – аптеку. Даже гамбургеры на мой вкус отдают хлороформом. Тебе не кажется?
– Нет, – сказал я.
Он усмехнулся.
– Что-то мы сегодня наговорили много пустых слов. Ты тоже внес свою лепту. – Он посмотрел мне в глаза. – Ты счастлив?
– Счастье? – проговорил я. – Знать бы, что это такое. Я лично не знаю. И не особенно стремлюсь узнать. По-моему, я бы понятия не имел, куда с ним деваться.
Мы вышли на улицу. Мне вдруг почему-то стало страшно за Хирша. Как-то никуда он не вписывался. А меньше всего в свой магазин электротоваров. Он же в своем роде конкистадор. Но куда податься в Нью-Йорке еврею-конкистадору, если военный комиссариат уже отсеял его за непригодностью?
* * *
Джесси возлежала на тахте в нежно-розовом халате, воплотившем дерзновенную мечту бруклинского портняжки об одеянии китайского мандарина.
– Ты как раз вовремя, Людвиг, – сказала она. – Завтра меня отправляют на заклание.
С красным лицом и горячечным блеском в глазах, Джесси источала натужную, бодряческую жизнерадостность. При этом ее округлая детская мордашка застыла от страха, который она тщетно силилась в себе заглушить. Казалось, страх передался даже волосам – они буквально встали дыбом вокруг всей головы и торчали на затылке, словно кудряшки перепуганной негритянки.
– Брось, Джесси, – сказал Равик. – Вечно ты все преувеличиваешь. Заурядное обследование. На всякий случай.
– На какой всякий случай? – встрепенулась Джесси.
– На случай заболевания. Мало ли у человека болячек.
– На случай какого заболевания?
– Да не знаю я, Джесси! Я же не ясновидящий. Для того мы тебя и оперируем. Но я скажу тебе всю правду.
– Точно скажешь?
– Точно скажу.
Джесси дышала мелко и часто. Чувствовалось, что Равику она не вполне верит. И спрашивает его, наверное, уже в двадцатый раз.
– Хорошо, – сказала она наконец и обратилась ко мне: – Ну, что ты скажешь про Париж?
– Он свободен, Джесси. – Я правда не знал, что еще сказать.
– Все-таки я дожила, – пробормотала она чуть слышно.
Я кивнул.
– И до освобождения Берлина доживешь, Джесси.
Она помолчала немного.
– Ты лучше съешь чего-нибудь, Людвиг. В Париже ты вечно ходил голодный. Там мои двойняшечки кофе приготовили и пирог. Мы сегодня не будем грустить. Все так быстро накатило. Сперва Париж, потом это. И прошлое вдруг совсем рядом. Как будто вчера. Но ты не думай об этом! А скажи, какое хорошее все же было время, несмотря ни на что, особенно по сравнению… – Она кивнула на тахту и на себя, лежачую. – Ладно, иди скорее, выпей кофе, Людвиг. Кофе свежий. Вон, Равик уже побежал. – Она вся подалась ко мне с видом заговорщицы. – Я ему не верю! – прошептала она. – Ни единому слову!
– А мне?
– И тебе тоже, Людвиг! А теперь иди и поешь!
В комнате набралось уже человек десять. И Боссе был здесь – он сидел у окна, уставившись на улицу. Там было тепло и пасмурно, дождь совсем было надумал моросить с пепельно-белого неба, но потом расхотел. Окна были закрыты, с орехового комода ровно, как большая усталая муха, жужжал вентилятор. Близняшки Даль вошли с кофе, штруделем и сливовым пирогом, пританцовывая, как пара пони. В первый миг я их даже не узнал. Они теперь снова стали блондинками – в узеньких коротких юбочках и легких, в поперечную полоску, хлопчатобумажных свитерках с коротким рукавом.
– Аппетитные чертовки, правда? – раздался голос у меня за спиной.
Я обернулся. Это, конечно же, был Бах, тот самый чудак, который все никак не мог выяснить, какая из близняшек позволит ему безнаказанно щипать себя за зад.
– Весьма, – согласился я, радуясь возможности подумать о чем-то другом. – Только при мысли о романе с одной из них как-то голова кругом идет, уж больно похожи.
– Двойная гарантия! – В подтверждение своих слов Бах энергично кивал, уверенно оттяпывая ложечкой кусок штруделя на тарелке. – Одна умрет, можно сразу на второй жениться. Живи и горя не знай! Где еще такое найдешь?
– Довольно макабрическое представление о семейном счастье. В последний раз вы помышляли только об одном – как бы добраться до симпатичных задиков этих двойняшек, не промокнув до нитки под кофейным душем. А теперь уже и жениться надумали. Вы, как я погляжу, тихий идеалист.
Бах укоризненно покачал лысиной, которая в ореоле жидкого чернявого пушка сильно смахивала на задницу павиана. Он недоверчиво молчал.
– Мне