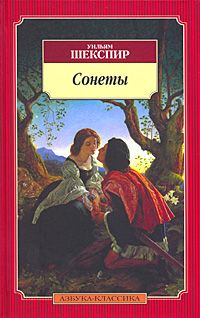CXXVI
У Времени, мой мальчик, отнял ты
часы, косу, зерцало красоты
и на глазах стареющих друзей
с годами расцветаешь всё пышней.
Зато Природа, госпожа невзгод,
придерживает твой успешный ход,
чтобы, минуты жалкие губя,
унизить Время и спасти тебя.
Но бойся, фаворит её щедрот!
Она свой клад недолго бережёт
и, хоть свести все счёты не спешит,
но ты оплатишь весь её кредит.
Когда-то не считала красота
красивым чёрный цвет, зато сейчас,
её права присвоив, чернота
фальшивой красотой морочит нас.
Назло природе сделался урод
прекрасен с накладным своим лицом,
а красота приюта не найдёт,
покрыта грязной ложью и стыдом.
Вот почему глаза любви моей
вороньей отливают чернотой,
скорбя по тем, кто с помощью затей
подложною блистает красотой.
Но так прекрасен этой скорби взгляд,
что все о красоте такой твердят.
Когда кладёшь ты нежные персты
на инструмент, о музыка моя,
и, слух мой потрясая, правишь ты
созвучьем гибких струн, — терзаюсь я,
что клавиши к твоим спешат рукам
собрать лобзаний нежный урожай;
что не моим застенчивым губам,
а дереву достался этот рай.
О нём мечтая, хочется им стать
на место клавиш, чтоб губам живым
твои персты дарили благодать,
а не скользили по щепам сухим.
И если в этом клавишей мечта, —
ты им оставь персты… а мне — уста.
Растленье духа в гибели стыда —
вот суть разврата. Посему разврат —
жесток, вины исполнен и вреда,
фальшив, кровав, изменами чреват.
Страсть утоливший презирает страсть,
хотя за ней бежал; но миг спустя,
хоть избежал её, но в ней пропасть,
схватив приманку, может не шутя.
Безумец, он желаньями гоним;
владеть желает, овладев вполне;
то счастье, то печаль владеют им;
вкусив восторг, он бродит как во сне.
Все это знают, но напрасный труд —
бежать с небес, что в пекло нас ведут.
Не солнца свет в очах любви моей;
и на устах кораллов красных нет;
темнее снега масть её грудей;
у проволочных прядей чёрный цвет.
Дамасских роз пунцово-бледный сад
цветами не снабдил её ланит;
и мне любой приятен аромат,
когда у ней дыхание смердит.
Хотя мне по душе её слова,
но музыка звучит куда нежней;
не видел я походки божества —
шаги моей любимой тяжелей.
Но тех она милей, кого хвала
в сравненьях показных оболгала.
Ты — деспот, ты такая не одна,
чей нежный лик суровостью объят;
моя душа смертельно влюблена
в тебя, в ком заключён бесценный клад.
Но страстных стонов, говорит иной,
не вызовет ни в ком твой внешний вид,
а я, задетый этой клеветой,
молчу, хотя душа моя кричит,
что я стенал на тысячу ладов,
представив эти милые черты,
и как свидетель клятву дать готов,
что смуглостью своей прекрасна ты.
Но если ты в делах своих черна,
ложь о тебе из них и сплетена.
Люблю твой взор, жалеющий о том,
что ты меня измучила в сердцах;
скорбит он в чёрном трауре своём
по мне, приметив боль в моих глазах.
Но так щека востока не горит
в лучах зари, и запада покой
так вполовину славой не покрыт,
что засверкала с первою звездой, —
как светел траур взора твоего!
Но лучше сердце трауром убрать
и состраданье облачить в него,
поскольку скорби цвет тебе под стать.
Что красота черна, в том клятву дам, —
и в том, что страшен вид не чёрных дам.
Проклятье той душе, что, душу мне
измучив, раны другу нанесла!
Пускай тобой истерзан я вполне,
зачем же другу эта кабала?
Меня со мной развёл, забрав с собой
моё «другое я» твой грозный взгляд.
Забыт собою, другом и тобой,
я трижды по три раза был распят.
Душа моя в тюрьме груди твоей,
но душу друга дай мне под залог
моей души, чтоб от твоих плетей
конвой мой душу друга уберёг.
Но весь я твой в узилище твоём
и сам расстался со своим добром.
Согласен я, что он отныне твой,
а я в залоге у твоих страстей
и продаю себя, чтоб «я другой»
назад вернулся, к радости моей.
Но против ты, и он неволе рад,
корыстна ты, а он непогрешим:
он брал взаймы, чтоб мой вернуть заклад,
связав себя ручательством своим.
Ты всё взяла с лихвой, как ростовщик,
исполнив красоты своей устав,
и по суду мой друг и твой должник
мне изменил, права мои поправ.
Он не со мной, но мы в твоих руках:
он выкупил меня, а я в цепях.
Мы пред тобою — твой желанный Вилл,
в придачу Вилл и Вилл в лице моём…
Своим желаньем я тебя смутил,
мечтая жить в желании твоём.
И ты, чьему желанью нет границ,
моё хоть раз не поместишь в него?
И, снисходя к желаньям разных лиц,
желанья не осветишь моего?
Как ни обильны влагою моря,
дождями умножаются они,
и ты, своим желанием горя,
моё желанье с ним объедини.
Чтоб никого отказ твой не убил,
ты знай: все — это я, твой верный Вилл.
Душа твоя слепая не со мной,
но пусть я буду твой желанный Вилл,
чтоб я, воспринят всей твоей душой,
ходатайство любви осуществил.
Присвоит Вилл любви твоей дары,
что были всем желанны до него,
хотя в таких делах до сей поры
для нас один не значит ничего.
В толпе других считай меня ничем,
но для души бери меня всего.
Моё ничто тебе приятно тем,
что в нём есть всё для счастья твоего.
Влюбись в моё прозванье что есть сил,
а в нём — желанье, твой желанный Вилл.
Мешает мне Любовь, глупец слепой,
увидеть то, что вижу наяву.
Не красота взор ослепляет мой,
а то, что красотой не назову.
Влекомый ложью по морям страстей,
где не один скитался экипаж,
мой взор в неверной гавани твоей
моё же сердце взял на абордаж.
Но почему фамильною землёй
оно считало пастбище для всех?
Или мой взор, обманутый собой,
окутал чистой правдой грязный грех?
Я словно погружён в чумной туман:
глаза мне лгут, и на сердце обман.
Когда она мне лжёт, что целиком
из правды состоит, я верю ей.
Я ей кажусь неопытным юнцом,
невеждой в мире каверзных затей.
Сочтя, что молод я в её глазах,
хоть виден ей закат моей весны,
я поощряю фальшь в её речах:
для нас обоих в правде нет цены.
Что ж мы признать с любимой не хотим
её притворство и мои лета?
да, но любовь идёт и пожилым,
и любит слыть правдивой красота.
На ложе нашей лжи ложится лесть,
и льстят грехи нам, чтоб не надоесть.
Не заставляй оправдывать обид,
что терпит от тебя душа моя.
Пусть силой то, в чём я силён, сразит
не твой фальшивый взгляд, но речь твоя.
Скажи, что неверна, но предо мной,
любимая, не стой, потупя взор;
бей не таясь, поскольку я стеной
не стану, отражая твой напор.
Но если милой ясно и без слов,
что мне грозят её глаза войной,
она отводит их, моих врагов,
чтобы с другим вступить в смертельный бой.
Меня мои мученья умертвят,
и пусть добьёт меня твой нежный взгляд.
Будь злой, но мудрой, чтобы палачом
не стать для тихой кротости моей,
не то в моём страдании немом
проступят голоса моих скорбей.
Не ради страсти научить уму
тебя я мог бы, — ради нежных слов;
поверит умирающий всему,
что от своих услышал докторов.
Отчаявшись, зайду умом в тупик
и оскорблю тебя, а белый свет
так извращён, что глупый клеветник
найдёт глупцов, охочих до клевет.
Тебя спасёт от них твой честный взгляд,
хотя ты сердцем метишь невпопад.