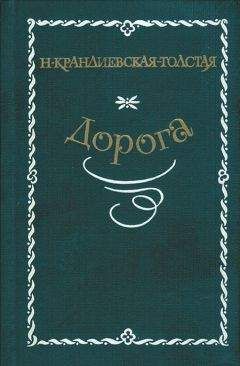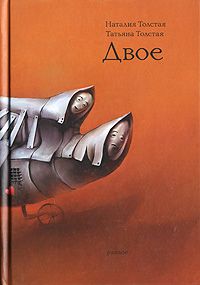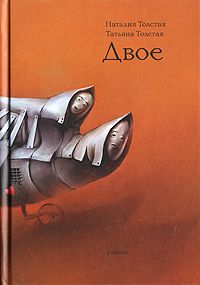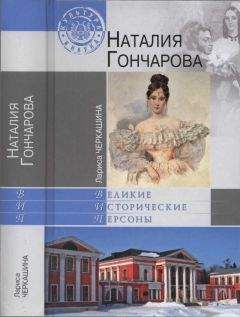Три верности
Письмо
А. П. Остроумовой-Лебедевой
I. «При встрече с вами память привела…»
При встрече с вами память привела
Тридцатилетней давности дела.
День петербургский, серенький такой,
Струится дождь по стеклам мастерской,
И вы, соседка по мольберту, рядом,
Палитрой заслоняя мне окно,
Откинулись, окидывая взглядом
Мазок, положенный на полотно.
На животе натурщицы в то утро —
Вы помните? — всей гаммой перламутра
Светилась кожа, и такой она
В этюде вашем запечатлена.
II. «Вы молоды еще. Но каждый вернисаж…»
Вы молоды еще. Но каждый вернисаж
В салонах «Мир искусства» — праздник ваш.
Бакст, Сомов, Бенуа — мы рядом с ними
В каталогах встречали ваше имя.
И, помнится, не я одна тогда,
Соседством с вами в студии горда,
Не понимала: вы, гравер и мастер,
Зачем вы здесь? И неужели в Баксте
Нуждается ваш изощренный глаз?
Как мы тогда не понимали вас!
Теперь мы знаем: суждено учиться
Художнику всегда. Таким уж он родится.
Таким и был прилежный ваш талант,
Природы вдохновенный лаборант.
III. «Бежали годы. В Детскосельском парке…»
Бежали годы. В Детскосельском парке
Другая встреча с вами. Полдень жаркий.
Благоухает скошенное сено.
Чугунная скамья. Альбомчик неизменный
У вас в руках. Я к вам не подошла.
Кругом такая тишина была,
В какой беседуют с природою творцы,
В какой рождаются искусства образцы.
Свернув с пути, я на «Большой каприз»
Взбежала, помню, поглядела вниз
И видела серебряные ивы,
Которые вы кистью торопливой,
Разливами воздушной акварели
В альбоме в этот день запечатлели.
Да! Вы из тех, кому судьбою дан
С природою пожизненный роман.
Вот почему так не хотелось мне
Мешать свиданью с ней наедине.
Я шла и думала о том, как вы богаты,
Как защищают вас искусства латы
От суеты, от лести, от ударов,
От страсти сокрушительных пожаров,
И, завистью томимая и грустью,
Сама тянулась к творческому устью.
IV. «Когда глядишь на эти сочетанья…»
Когда глядишь на эти сочетанья
Сугробов с охрой каменного зданья,
На пепел облаков, пересеченный
Береговой Ростральною колонной,
На кружево оград под кущами дерев,
На камень у воды, где лапу поднял лев, —
В цветной гравюре, взятой наугад,
Ты узнаешь: да, это Ленинград.
Как он угадан в белизне и черни
Гравюры вашей! Нежностью дочерней
Рисунок линий строгих отеплен.
И классика и жизнь. Такой нам дорог он.
V. «И здесь, художница, мне суждено вас встретить…»
И здесь, художница, мне суждено
вас встретить
В год потрясений, в сорок третий —
Суровый год геройства и побед.
Блокады прорванной еще дымится след.
Еще свежи под ледяною пленкой
Фугасных бомб зловещие воронки.
Они, как раны в снежной белизне,
На Выборгской зияют стороне.
Сидим и друг на друга смотрим мы.
Ищу следов мучительной зимы.
Я вижу их. Но все ж, крепка порода
В закале страшного сорок второго года!
След на руках. Вот так, до синевы
Они у нас надолго промерзали,
Когда зубец пилы мы в них вонзали,
Когда тащили ведра из Невы.
Смотрю гравюры. Перечень трудов,
За этот год исполненных, читаю.
Я вашу жизнь геройством называю,
Других не подбирая слов.
Вы улыбаетесь: «Геройство? Почему?
Не понимаю. Проще и точнее:
Верна самой себе, искусству своему
И городу. Иначе — не умею.
Иначе — смерть, подорванные корни».
И в комнате становится просторней
От этих слов, и дышится легко.
Художница! Как просто, глубоко
Определили вы и подвиг этой жизни,
И смысл искусства, верного Отчизне.
Три верности! Себе, ему и ей,
Бессмертной Родине, истоку наших дней.
Три верности! Мы их соединим
В одну — великую, и с нею победим!
«Ты пишешь письма, ты зовешь…»
Ты пишешь письма, ты зовешь,
Ты к жизни сытой просишь в гости.
Ты прав по-своему. Ну что ж!
И я права в своем упорстве.
Мне это время по плечу, —
Не думай, что изнемогаю.
За битвой с песнею лечу
И в ногу с голодом шагаю.
И если надо выбирать
Судьбу — не обольщусь другою.
Утешусь гордою мечтою —
За этот город умирать!
«С детства трусихой была…»
С детства трусихой была,
С детства поднять не могла
Веки бессонные Вию.
В сказках накопленный хлам
Страх сторожил по углам,
Шорохи слушал ночные.
Крался ко мне вурдалак,
Сердце сжимала в кулак
Лапка выжиги сухая.
И, как тарантул, впотьмах,
Хиздрик вбегал на руках,
Хилые ноги вздымая.
А домовой? А Кащей?
Мало ль на свете вещей,
Кровь леденящих до дрожи?
Мало ль загробных гонцов,
Духов, чертей, мертвецов
С окаменевшею кожей?
Мало ль бессонных ночей
В бреднях, смолы горячей,
Попусту перегорало?
Ныне пришли времена, —
Жизнь по-простому страшна,
Я же бесстрашною стала.
И не во сне — наяву
С крысою в кухне живу,
В обледенелой пустыне.
Смерти проносится вой,
Рвется снаряд за стеной, —
Сердце не дрогнет, не стынет.
Если на труп у дверей
Лестницы черной моей
Я в темноте спотыкаюсь, —
Где же тут страх, посуди?
Руки сложить на груди
К мертвому я наклоняюсь.
Спросишь: откуда такой
Каменно-твердый покой?
Что же нас так закалило?
Знаю. Об этом молчу.
Встали плечом мы к плечу —
Вот он, покой наш и сила!
Ей было суждено не умереть, а жить.
И в перевязочной не проронила звука.
Но лоб испариной ей увлажнила мука,
Она просила губы освежить.
«Жить буду!» — вдруг сказала. Сорвала
Повязку с глаз и сестрам улыбнулась.
Тогда старуха, что над ней нагнулась,
Как тень от изголовья отплыла,
Не в силах подкосить летящего крыла.
Ждет у моря израненный город,
Мне к его изголовью пора.
Распахнула у шубы мне ворот,
Тайно крестит меня сестра.
И, подхвачена бурей железной,
Отрываюсь легко от земли
И лечу над привычною бездной
В полыханье заката вдали.
Как и надо для летной погоды,
Ветер сух, но все крепче, острей, —
Встречный, с запада, веющий йодом,
Ветер Балтики, ветер морей.
И уже узнаю сквозь туманы,
В серебристых разливах воды,
Город, славой венчающий раны,
Город преодоленной беды.
Протянувший каналы, как струны,
Вдоль решеток дворцов и садов,
Самый мужественный, самый юный,
Самый верный среди городов!