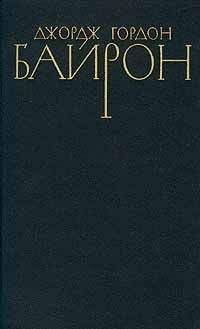Джордж Гордон Байрон
Мазепа[1]
«Тот, кто занимал тогда этот пост, был польский шляхтич, по имени Мазепа, родившийся в Подольском палатинате; он был пажом Яна Казимира[2] и при его дворе приобрел некоторый европейский лоск. В молодости у него был роман с женой одного польского шляхтича, и муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагим к дикой лошади и выпустить ее на свободу. Лошадь была с Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумертвого от усталости и голода. Его приютили местные крестьяне; он долго жил среди них и отличился в нескольких набегах на татар. Благодаря превосходству своего ума и образования он пользовался большим почетом среди казаков, слава его все более и более росла, так что царь принужден был объявить его украинским гетманом» (Voltaire. Hist, de Charles XII, p. 196).
«Король бежал, и гнавшиеся за ним враги убили под ним коня; полковник Гнета, раненый и истекающий кровью, уступил ему своего. Таким образом, завоевателя, который не мог сесть в седло во время битвы, дважды посадили на коня во время бегства» (стр. 216).
«Король с несколькими всадниками отправился другой дорогой. Карета, в которой он сидел, сломалась по пути, и его посадили верхом на лошадь. В довершение, он ночью заблудился в лесу. Потеряв лошадь, упавшую от усталости, обессиленный, невыносимо страдая от ран, лежал он несколько часов под деревом, ежеминутно подвергаясь опасности быть настигнутым преследователями» (стр. 218).[3]
Он стих — полтавский страшный бой,
Когда был счастьем кинут Швед;
Вокруг полки лежат грядой:
Им битв и крови больше нет.
Победный лавр и власть войны
(Что лгут, как раб их, человек)
Ушли к Царю, и спасены
Валы Москвы… Но не навек:
До дня, что горше и мрачней,[4]
До года, всех других черней,
Когда позором сменят мощь
Сильнейший враг, славнейший вождь,
И гром крушенья, слав закат,
Смяв одного, — мир молньей поразят!
Игра судьбы! Карл день и ночь,
Изранен, должен мчаться прочь
Сквозь воды рек и ширь полей,
В крови подвластных и в своей:
Весь полк, пробивший путь, полег,
И все ж не прозвучал упрек
Тщеславцу — в час, когда он пал
И властью правду не пугал.
Гиета Карлу уступил
Коня — и русский плен влачил,
И умер. Конь тот, много лиг
Промчавшись бодро, вдруг поник
И пал. В лесной глуши, где мрак
Обвил преследователь-враг
Кольцом огней сторожевых,
Измученный пристал король.
Вот лавр! Вот отдых! — И для них
Народы сносят гнет и боль?
До смертной муки изнурен,
Под дикий дуб ложится он;
На ранах кровь, и в жилах лед;
Сырая тьма над ним плывет;
Озноб, что тело сотрясал,
Сном подкрепиться не давал
И все ж, как должно королям,
Карл все сносил, суров и прям,
И в крайних бедах, свыше сил,
Страданья — воле подчинил,
И покорились те сполна,
Как покорялись племена!
Где полководцы? Мало их
Ушло из боя! Горсть живых
Осталась, рыцарскую честь
Храня по-прежнему, при нем,
И все спешат на землю сесть
Вкруг короля с его конем:
Животных и людей всегда
Друзьями делает беда.
Здесь и Мазепа. Древний дуб,
Как сам он — стар, суров и груб,
Дал кров ему; спокоен, смел,
Князь Украины не хотел
Лечь, хоть измучен был вдвойне,
Не позаботясь о коне:
Казацкий гетман расседлал
Его и гриву расчесал,
И вычистил, и подостлал
Ему листвы, и рад, что тот
Траву стал есть, — а сам сперва
Боялся он, что отпугнет
Коня росистая трава;
Но, как он сам, неприхотлив
Был конь и к ложу, и к еде;
Всегда послушен, хоть игрив,
Он был готов на все, везде;
Вполне «татарин» — быстр, силен,
Космат — Мазепу всюду он
Носил; знал голос: шел на зов,
Признав средь тысяч голосов;
Будь ночь беззвездная вокруг,
Он мчался на знакомый звук;
Он от заката по рассвет
Бежал козленком бы вослед!
Все сделав, плащ Мазепа свой
Постлал; копье о дуб крутой
Опер; проверил — хорошо ль
Дорогу вынесла пистоль,
И есть ли порох под курком,
И держит ли зажим тугой
Кремень, и прочно ли ножны
На поясе закреплены;
Тогда лишь этот муж седой
Достал из сумки за седлом
Свой ужин, скудный и простой;
Он предлагает королю
И всем, кто возле, снедь свою
Достойнее, чем куртизан,[5]
Кем праздник в честь монарха дан.
И Карл с улыбкою берет
Кусок свой бедный — и дает
Понять, что он душой сильней
И раны, и беды своей.
Сказал он: «Всяк из нас явил
Немало доблести и сил
В боях и в маршах; но умел
Дать меньше слов и больше дел
Лишь ты, Мазепа! Острый взор
С дней Александра до сих пор
Столь ладной пары б не сыскал,
Чем ты и этот Буцефал.[6]
Всех скифов ты затмил, коня
Чрез балки и поля гоня».
«Будь школа проклята моя,
Где обучился ездить я!»
«Но почему же, — Карл сказал,
Раз ты таким искусным стал?»
В ответ Мазепа: «Долог сказ;
Ждет путь еще немалый нас,
Где, что ни шаг, таится враг,
На одного по пять рубак;
Коням и нам не страшен плен,
Лишь перейдем за Борисфен.[7]
А вы устали; всем покой
Необходим; как часовой
При вас я буду». — «Нет; изволь
Поведать нам, — сказал король,
Твою историю сполна;
Пожалуй, и уснуть она
Мне помогла бы, а сейчас
Дремотой не сомкнуть мне глаз».
«Коль так, я, государь, готов
Встряхнуть все семьдесят годов,
Что помню. Двадцать лет мне… да…
Так, так… был королем тогда
Ян Казимир. А я при нем
Сызмлада состоял пажом.
Монарх он был ученый, — что ж…
Но с вами, государь, не схож:
Он войн не вел, земель чужих
Не брал, чтоб не отбили их;
И (если сейма не считать)
До неприличья благодать
Была при нем. И скорбь он знал:
Он муз и женщин обожал,
А те порой несносны так,
Что о войне вздыхал бедняк,
Но гнев стихал, — и новых вдруг
Искал он книг, искал подруг.
Давал он балы без конца,
И вся Варшава у дворца
Сходилась — любоваться там
На пышный сонм князей и дам.
Как польский Соломон воспет
Он был; нашелся все ж поэт
Без пенсии: он под конец
Скропал сатиру, как «не-льстец».
Ну, двор! Пирам — утерян счет;
Любой придворный рифмоплет;
Я сам стишки слагал — пиит!
Дав подпись «Горестный Тирсит[8]».
Там некий граф был, всех других
Древнее родом и знатней,
Богаче копей соляных
Или серебряных. Своей
Гордился знатностью он так,
Как будто небу был свояк;
Он слыл столь знатен и богат,
Что мог претендовать на трон;
Так долго устремлял он взгляд
На хартии, на блеск палат,
Пока все подвиги семьи,
В полубезумном забытьи,
Не стал считать своими он.
С ним не была жена согласна:
На тридцать лет его юней,
Она томилась ежечасно
Под гнетом мужа; страсти в ней
Кипели, что ни день, сильней;
Надежды… страх… и вот слезою
Она простилась с чистотою:
Мечта, другая; нежность взгляда
Юнцов варшавских, серенада,
Истомный танец — все, что надо,
Чтоб холоднейшая жена
К супругу сделалась нежна,
Ему даря прекрасный титул,
Что вводит в ангельский капитул;
Но странно: очень редко тот,
Кто заслужил его, хвастнет.
«Я очень был красив тогда;
Теперь за семьдесят года
Шагнули, — мне ль бояться слов?
Немного мужей и юнцов,
Вассалов, рыцарей, — со мной
Могли поспорить красотой.
Был резв я, молод и силен,
Не то, что нынче, — не согбен,
Не изморщинен в смене лет,
Забот и войн, что стерли след
Души моей с лица; меня
Признать бы не смогла родня,
Со мною встреться и сравни
И прошлые, и эти дни.
К тому ж не старость избрала
Своей страницей гладь чела;
Не совладать покуда ей
С умом и с бодростью моей,
Иначе б в этот поздний час
Не мог бы я вести для вас
Под черным небом мой рассказ.
Но дальше… Тень Терезы — вот:
Туда, за куст ореха тот,
Как бы сейчас плывет она,
Настолько в памяти ясна!
И все же нет ни слов, ни сил
Ту описать, кого любил!
Был взор ее азийских глаз
(Кровь турок с польской кровью здесь
Дает порой такую смесь)
Темнее неба в этот час,
Но нежный свет струился в нем,
Как лунный блеск в лесу ночном.
Широкий, темный, влажный, — он
В своих лучах был растворен,
Весь — грусть и пламя, точно взор
У мучениц, что, на костер
Взойдя, на небо так глядят,
Как будто смерть благодарят.
Лоб ясен был, как летний пруд,
Лучом пронизанный до дна,
Когда и волны не плеснут,
И высь небес отражена.
Лицо и рот… Но что болтать?
Ее люблю я, как любил!
Таких, как я, любовный пыл
Не устает всю жизнь терзать,
Сквозь боль и злобу — любим мы!
И призрак прошлого из тьмы
Приходит к нам на склоне лет,
И — за Мазепой бродит вслед.