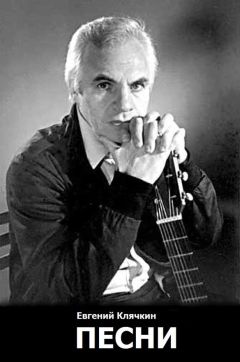Евгений Исаакович Клячкин родился 23 марта 1934 года в Ленинграде. В войну воспитывался в детдоме. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Городское строительство и хозяйство» (1957). Работал инженером-проектировщиком в строительных организациях Ленинграда, затем — в ленинградском отделении Худфонда.
Песни начал писать с 1961 года, сначала на стихи других поэтов, затем преимущественно на собственные. Играл на семиструнной гитаре. Лауреат 1-го и 2-го ленинградских конкурсов самодеятельной песни (в 1965 и 1967 г.), конкурса туристской песни I-го Всесоюзного слёта победителей походов по местам боевой славы в Бресте в 1965 г., II-го Всесоюзного конкурса на лучшую туристскую песню в Москве в 1969 г. Член и председатель жюри многих фестивалей. Выступал от Ленконцерта и Росконцерта. Три диска-гиганта на фирме «Мелодия» (1987 год — песни на свои стихи, 1990 год — на стихи Иосифа Бродского, 1995 год — концертный), книга песен (1994), аудиокассеты, лазерные диски.
С апреля 1990 года жил в Израиле. Погиб во время купания в Средиземном море 30 июля 1994 года — у него остановилось сердце.
Сколько белых зубов —
я к улыбкам таким не привык.
Значит, это и есть
мой усталый, несчастный народ?!
Никогда не постичь
их клокочущий в горле язык.
Чьи смеются глаза?
«Ло нора[2], адони, ло нора!»
Ну так что же теперь?
Подойди и не бойся, дитя!
Протяни свою руку,
о юный беспечный пожар!
Я увидеть хочу,
как под смуглою кожей
летят эти вены-ручьи…
«И-эфшар[3], адони, и-эфшар!»
Но находят легко,
как ночная скамейка — двоих,
как стрела — свою цель
и желанную музыку — стих, —
так легко мои пальцы
скользят и находят твои…
Что ты скажешь теперь?
«Ло царих[4], адони, ло царих!»
Твои губы близки,
твои губы безумно близки!
Вот глаза — я тону,
но спасать не прошу, не прошу!..
…Тебе больно, дитя, —
о прости, ради Бога — прости!..
Что ты шепчешь в слезах?
«Ло хашув[5], адони, ло хашув!..»
Сколько белых зубов!
Я к улыбкам таким не привык…
Рано-рано утром
кто-то очень шустрый
прыг! — у мамы под бочком.
То ли песик Тишка,
то ли рыжий мишка,
то ли крошка гном.
Быстренько и ловко
спрятался с головкой,
одеяло натянул.
Ну-ка, кто же это?
Глянем по секрету!
Кто там? Ну и ну!
Да это ж Анечка,
такая маленькая девочка.
Она танцует, и смеется, и поет,
и никогда не плачет
Анечка, ну, замечательная девочка —
всегда танцует, и смеется, и поет.
Скажет мама где-то:
«Анечка, обедать!» —
Анечка сама бежит.
Кашу и картошку
набирает ложкой
в ротик положить.
Прожует, глотает,
рот не набивает,
ничего не разольет.
Отряхнет рубашку,
вымоет мордашку
и кормить идет детей.
У Анечки
забот не меньше, чем у мамочки:
сыночек Мишка, дочь Козявка,
песик Тишка — всех на завтрак
и в обед кормить,
еще убрать, еще посуду мыть.
И чтоб скорей ложились спать —
всех наказать.
В комнате и кухне
лампочки потухли —
спать, конечно, спать пора.
В телевизор тети
спели «Доброй ночи» —
кончилась игра.
Анечка не плачет
(что же это значит?!).
Свет не просит оставлять —
умные ребята
делают всегда так —
ночью надо спать.
И кто же, кто же здесь
так ровно складывает платьице?
Так хорошо кладет на стул
и ставит тапки в уголок?
Да это ж Анечка —
такая маленькая девочка —
сама легла и повернулась на бочок —
и спит!
Анюта, милый человек!
Конечно, кое-что мешает.
Но все же кое-что вмещает
наш не такой уж краткий век.
С чего мы начинали, мать?
С того, что песню мы родили —
одни, в то время как другие
пытались все это обнять —
обнять и песню, и творца
и защитить их всех крылами,
как мы храним от спички пламя
в ладонях около лица.
Смотри, метафора растет:
когда перегорают лампы,
то огонек — хотя бы слабый —
нам нужен ночи напролет.
Мы сберегли — свидетель Бог! —
творца, ладони и светильник.
Он, может быть, не очень сильный,
но каждый сделал все, что смог.
А что теперь? Да боже мой!
Костер горит и не погаснет,
огонь — ведь это высший праздник
победы Дня над Темнотой.
Вот так вот, мать! Живи сама
и впредь расти своих питомцев.
Как пел поэт: Да будет Солнце!
Добавив: и да сгинет Тьма!
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет.
Б. Окуджава «Молитва»
Кто славы просит, кто женщин,
а я — себе не дурак! —
прошу извилин поменьше
и чтоб потолще кора.
Чтобы — в висках, во лбу ли —
воспринимались впрок
любые земные бури
как бархатный ветерок.
Чтобы давильня утром
и вкрадчивый голос днем
ни злобою, ни инсультом
не отозвались в нем.
Чтоб как ноге — коромысло,
как сырость дождя — волне, —
вторые и третьи смыслы
неведомы были мне.
Чтоб взор мой незамутненный,
встречая подобный взор,
искренне и влюбленно
смотрелся в него в упор.
И я изведаю счастье
и мимо пройду, авось
не зная, каких напастей
избегнуть мне довелось.
Я стану и тих, и кроток,
и, веруя в этот сон,
спокойствием идиота
я буду вознагражден.
Ах, Израиль, как здесь пьется, как поется!
Жизнь подмигивает: «Главное — не ной!
Ты же знал, что начинать с нуля придется!»
Да, конечно! Но не знал, что значит «ноль».
Вот я кругленький и гладкий, словно нолик,
в инкубаторе олимовских[6] цыплят.
Все пищат, толкутся, зерна экономят —
старики и молодые — все подряд.
Эти вскоре петушками оперятся,
эта — курочкой на жердочку вспорхнет.
А седым — таким, как я, — куда деваться,
где усталое их сердце отдохнет?
Все, что нажито, — то брошено, забыто.
Не о тряпках я, конечно, говорю.
Уважение к себе — вот что убито!
То есть именно все сводится к нулю.
Потому, наверно, столько оптимизма:
«Ма шломха?[7]» — «Ха коль беседер![8]» — бьет в зенит.
Но в глазах стоят картинки нашей жизни,
а в «беседере» отчаянье звенит.
Ноль — так ноль! Пускай же маятник качнется,
Бог нам в помощь — точно выбрать путь вперед.
У меня-то все, конечно, обойдется,
если только не повешусь в первый год.
Ах, Израиль, как здесь пьется, как поется,
Жизнь подмигивает: «Главное — не ной!»
Ах, Саша! Неужели двадцадь с лишним…
Саше Городницкому к 50-летию
Ах, Саша! Неужели двадцать с лишним
тому назад такими были мы?!
Ты — с шевелюрой, у меня — глазищи,
и темный город посреди зимы.
И адрес где-то в памяти затерян,
но покопаться — сыщешь и его:
громадная квартира на Литейном
и наша встреча в ночь под Рождество.
Как мы тогда бесспорно были правы
и как гордились нашей прямотой!
Ты бил меня за то, что рифмы слабы,
а я тебя — как раз за мастерство.
Холодный блеск отточенного стиля
не выявлял, казалось мне тогда,
биенья крови, и слова застыли
гирляндами сверкающего льда.
Как быстро кончилась — увы! — пора всезнанья,
но лба прибавилось, хоть и за счет волос.
И все, что было или будет с нами,
во времени одном переплелось.
И наши судьбы, как и наши строки,
в одном оркестре тянут унисон.
И только вот — как всюду! — давят сроки,
причем на сердце, чтоб не счел за сон.
Я поделился опытом, который,
наверно, бесполезен, как любой.
Мы слишком много тратим времени на споры
и слишком мало оставляем на любовь.