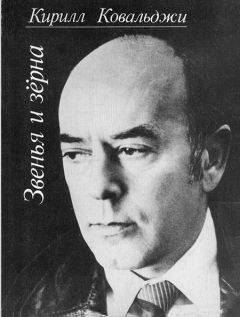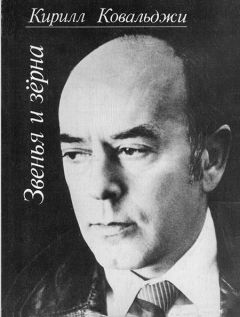«…но пуля Дантеса…»
* * *
…но пуля Дантеса
на смену поэта повергнутого
на сцену вызвала Лермонтова —
такая вот пьеса.
Но что за финал,
когда не нашлось современника
спросить с того соплеменника,
что руку на своего
поднимал!
И с тех пор уже
не от француза
погибала русская муза…
Защитилась тогда от поэта,
отстояла себя…
Гору лет
после выстрела из пистолета
перешла —
продолжения нет.
Защитилась,
себя отстояла,
родилась, мол, актрисой на свет,
но актриса тогда почему-то
за минуту,
за четверть минуты
до финала
в лицо не узнала
настоящую роль…
Застрелился поэт.
Говорили потом:
ухватился
за отказ — в оправданье себе,
застрелился поэт,
уклонился
от того, что чернело в судьбе,
упредил середину тридцатых,
с женским именем гибель связал,
написал он, что нет виноватых,
отчего погибал —
не узнал,
потому в полный рост, как бывало,
молодой, упоенный Москвой,
он на площади
весь из металла
с непокрытой стоит головой,
но в глазах у нее
и сегодня:
дымка пороха… стон…
и опять —
с пулей в сердце
он голову поднял,
смотрит,
силится что-то сказать…
* * *
Они любили друг друга
и оба с собою покончили…
Правда, он застрелился почти на глазах у другой,
а она полстолетья еще погодила
и многих еще любила,
но все-таки верно лишь то, что в стихах:
Маяковский и Лиля.
«Стариковский семейный досуг…»
* * *
Стариковский семейный досуг
ставит ту же пластинку на круг.
Ах, какая привычная мука
повторяться от звука до звука,
завтра снова вчерашняя скука,
лишь бы только не помнить, что вдруг —
та последняя в мире разлука…
«Страсть не зря укротилась…»
* * *
Страсть не зря укротилась —
Горек привкус предела.
Будущее укоротилось,
Сущее потускнело.
Оно и в зное и в стуже
Все хуже, по мнению старцев.
Не спорь.
Мир становится хуже,
Чтоб легче с ним было расстаться.
«Ожил в сумерках магнитофон…»
* * *
Ожил в сумерках магнитофон,
ленту старую сводит судорога,
воскресает веселая сутолока,
хохот, тост, хрусталя перезвон,
голоса…
словно чертик из ящика,
прямо в комнату — праздничный час.
Чудеса! Только в то настоящее
не пускают из этого нас.
Там не ведают все, что последует.
Мы-то знаем.
Пускать нас не следует.
Еще раз прокрути,
еще раз…
«Пространства и времени нет…»
* * *
Пространства и времени нет
для памяти.
Память — арена,
где вольно направленный свет
из тьмы вырывает мгновенно
любой по желанью сюжет.
Но старость — обратная смена,
и детство, как купол вселенной,
свободной от боли и бед,
растет и встает постепенно
над жизнью, над сценою лет.
«Ты умнеешь год от году…»
* * *
Ты умнеешь год от году,
постигая жизнь с исподу,
недоверием к восходу
обставляешь свой уход.
Эта мудрость — не поется,
поздней правдою зовется,
в срок просроченный дается,
впрок живущим не идет.
Это выгоревший уголь,
наступление песка,
эта мудрость — жизни убыль,
белый холод ледника.
«Есть беспамятства ученье…»
* * *
Есть беспамятства ученье,
Где не храм, а кабинет.
Есть секрет переключенья,
Отключения завет.
Дело сделано, и — к черту!
Отводи скорей глаза.
День ушедший перечеркнут,
Вспоминать его нельзя.
Никаких итогов зряшных!
След стирает пустота.
Совесть, враг всех дел вчерашних,
Исторически чиста!
«И возраст, и авторитет…»
* * *
И возраст, и авторитет,
И располагающий вид…
Заходит он в свой кабинет,
Уверен, умен, деловит.
И личный решился вопрос,
Хватило уменья и сил,
И женщину он перерос,
Которую боготворил…
Как улитка — сладость воли
находил он взаперти:
жизнь опасна, жизнь — как поле
минное — не перейти, —
каждый шаг непоправимый,
роковой, необратимый,
неисповедимы все пути…
Страшно быть религиозным,
атеистом — страх двойной.
Опасался быть серьезным,
как паяц — перед судьбой,
у часов он стрелки отнял,
чтоб ни холод, ни жара,
чтобы завтра — как сегодня,
а сегодня — как вчера:
«Как улитка — медленно, уютно
в раковине сны свои смотрю,
потому что понимаю смутно
века двадцать первого зарю…»
«Прет прямолинейно, и нелепо…»
* * *
Прет прямолинейно, и нелепо,
И беспрекословно, как приказ,
По пути, начертанному слепо,
Пращур паровоза — Китоврас.
Не скажу: догматик одиозный
Или же фанатик-еретик,
Знаю —
плут петляет виртуозно,
Простодушье
рвется напрямик!
…да скроется тьма!
А. С. Пушкин* * *
Удивляйтесь Вселенной
и живому всему,
говорите спасибо
неизвестно кому.
Удивляйтесь поэту,
одолевшему тьму,
говорите спасибо,
говорите — ему!
— Россия, боль моя,
к чему мне ум и зренье?
Меня вот-вот сметет
наплыв небытия.
Кругом самообман
и самообольщенье,
А я себе не лгу,
Россия, боль моя,
Не вышло, не сбылось,
не состоялось снова.
Все кончено. Тянусь
в грядущие века,
Как через пропасть мост,
и вновь рукой слепого,
Опоры ищет в воздухе
строка.
«В стране Пушкина и Блока…»
* * *
В стране Пушкина и Блока
называться поэтом —
это редкое мужество
или полный провал.
В стране Пушкина и Блока
на стихи я решился,
ибо жил далеко на окраине
и поэтом себя не считал…
«Бояться тебе не пристало…»
* * *
Бояться тебе не пристало,
Что скажет завистник и хам:
Чужие слова не пристанут
К твоим беззащитным стихам.
Никто ничего не прибавит
К поэзии, не пристегнет —
Хулой отличит и прославит,
Потомков к тебе привлечет.
* * *
Лирой или секирой —
лирикой или сатирой —
стихи должны быть поэзией
или, напротив, пародией,
только не просто стихами,
рифмами-бубенцами…
«Читателю достаточно общенья…»
* * *
Читателю достаточно общенья
с моим стихотворением, а мне
на встречу не поспеть уже,
ревную
к своим созданьям — будто не мои,
дорогами, друзьями и врагами
они со мной не делятся совсем,
когда тоскую по обратной связи
здесь и сейчас,
шагая с москвичами,
спешащими в метро, в универсамы,
на площадь, где задумался поэт,
что к цоколю признанием прикован.
«Там, за высотным зданьем на Смоленской…»