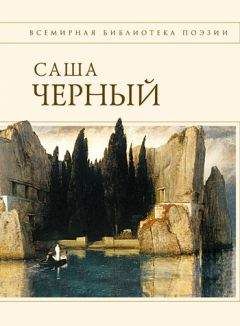Виленский ребус
О Рахиль, твоя походка
Отдается в сердце четко…
Голос твой – как голубь кроткий,
Стан твой – тополь на горе,
И глаза твои – маслины,
Так глубоки, так невинны,
Как… (нажал на все пружины —
Нет сравнений в словаре!).
Но жених твой… Гром и пушка!
Ты и он – подумай, душка:
Одуванчик и лягушка,
Мотылек и вурдалак.
Эти жесты и улыбки.
Эти брючки, эти штрипки…
Весь до дна, как клейстер липкий, —
Мелкий маклер и пошляк.
Но, дитя, всего смешнее,
Что в придачу к Гименею[131]
Ты такому дуралею
Триста тысяч хочешь дать…
О, Рахиль, царица Вильны!
Мысль и логика бессильны, —
Этот дикий ребус стильный
И Спинозе[132] не понять.
<1921>
Из-за забора вылезла луна
И нагло села на крутую крышу.
С надеждой, верой и любовью слышу,
Как запирают ставни у окна.
Луна!
О, томный шорох темных тополей
И спелых груш наивно-детский запах!
Любовь сжимает сердце в цепких лапах,
И яблони смеются вдоль аллей.
Смелей!
Ты там, как мышь, притихла в тишине?
Но взвизгнет дверь пустынного балкона,
Белея и шумя волнами балахона,
Ты проскользнешь, как бабочка, ко мне.
В огне…
Да – дверь поет. Дождался наконец.
А впрочем, хрип, и кашель, и сморканье,
И толстых ног чужие очертанья —
Всё говорит, что это твой отец.
Конец.
О, носорог! Он смотрит на луну,
Скребет бока, живот и поясницу
И, придавив до плача половицу,
Икотой нарушает тишину.
Ну-ну…
Потом в туфлях спустился в сонный сад,
В аллее яблоки опавшие сбирает,
Их с чавканьем и хрустом пожирает
И в тьму вперяет близорукий взгляд.
Назад!
К стволу с отчаяньем и гневом я приник.
Застыл. Молчу. А в сердце кастаньеты…
Ты спишь, любимая? Конечно, нет ответа,
И не уходит медленный старик —
Привык!
Мечтает… Гад! Садится на скамью…
Вокруг забор, а на заборе пики.
Ужель застряну и в бессильном крике
Свою любовь и злобу изолью?!
Плюю…
Луна струит серебряную пыль.
Светло. Прости!.. В тоске пе-ре-ле-за-ю,
Твои глаза заочно ло-бы-за-ю
И… с тррреском рву штанину о костыль.
Рахиль!
Как мамонт бешеный, влачился я, хромой.
На улицах луна и кружево каштанов…
Будь проклята любовь вблизи отцов-тиранов!
Кто утолит сегодня голод мой?
Домой!..
1910
Уездный город Болхов[133]
На Одёрской площади понурые одры,
Понурые лари и понурые крестьяне.
Вкруг Одёрской площади груды пестрой рвани:
Номера, лабазы и постоялые дворы.
Воняет кожей[134], рыбой и клеем.
Машина в трактире хрипло сипит.
Пыль кружит по улице и забивает рот,
Въедается в глаза, клеймит лицо и ворот.
Боровы с веревками оживляют город
И, моргая веками, дрыхнут у ворот.
Заборы – заборы – заборы – заборы
Мостки, пустыри и пыльный репей.
Коринфские колонны[135] облупленной семьей
Поддерживают кров «Мещанской богадельни».
Средь нищенских домов упорно и бесцельно
Угрюмо-пьяный чуйка[136] воюет со скамьей.
Сквозь мутные стекла мерцают божницы[137].
Два стражника мчатся куда-то в карьер.
Двадцать пять церквей пестрят со всех сторон.
Лиловые, и желтые, и белые в полоску.
Дева у окна скребет перстом прическу.
В небе караван тоскующих ворон.
Воняет клеем, пылью и кожей.
Стемнело. День умер. Куда бы пойти?..
На горе бомондное гулянье в «Городке»:
Извилистые ухари в драконовых жилетах
И вспухшие от сна кожевницы в корсетах
Ползут кольцом вкруг «музыки», как стая мух
в горшке.
Кларнет и гобой отстают от литавров.
«Как ночь-то лунаста!» – «Лобзаться-с
вкусней!»
А внизу за гривенник волшебный новый яд —
Серьезная толпа застыла пред экраном:
«Карнавал в Венеции», «Любовник под диваном»[138].
Шелушат подсолнухи, вздыхают и кряхтят…
Мальчишки прильнули к щелкам забора.
Два стражника мчатся куда-то в карьер.
1911
Трава на мостовой,
И на заборе кошка.
Зевая, постовой
Свернул «собачью ножку».
Натер босой старик
Забор крахмальной жижей
И лепит: «Сестры Шик —
Сопрана из Парижа».
Окно в глухой стене:
Открытки, клей, Мадонна,
«Мозг и душа»[139], «На дне»[140],
«Гаданье Соломона»[141].
Трава на мостовой.
Ушла с забора кошка…
Семейство мух гурьбой
Усеяло окошко.
<1910>
Хочу отдохнуть от сатиры…
У лиры моей
Есть тихо дрожащие, легкие звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу,
Пою и в такт головою киваю…
Хочу быть незлобным ягненком,
Ребенком,
Которого взрослые люди дразнили и злили,
А жизнь за чьи-то чужие грехи
Лишила третьего блюда.
Васильевский остров[142] прекрасен,
Как жаба в манжетах.
Отсюда, с балконца,
Омытый потоками солнца,
Он весел, и грязен, и ясен,
Как старый маркёр[143].
Над ним углубленная просинь
Зовет, и поет, и дрожит…
Задумчиво осень
Последние листья желтит.
Срывает.
Бросает под ноги людей на панель…
А в сердце не молкнет свирель:
Весна опять возвратится!
О зимняя спячка медведя,
Сосущего пальчики лап!
Твой девственный храп
Желанней лобзаний прекраснейшей леди.
Как молью изъеден я сплином…
Посыпьте меня нафталином,
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна.
<1909>
Облаков жемчужный поясок
Полукругом вьется над заливом.
На горячий палевый песок
Мы легли в томлении ленивом.
Голый доктор, толстый и большой,
Подставляет солнцу бок и спину.
Принимаю вспыхнувшей душой
Даже эту дикую картину.
Мы наги, как дети-дикари,
Дикари, но в самом лучшем смысле.
Подымайся, солнце, и гори,
Растопляй кочующие мысли!
По морскому хрену, возле глаз,
Лезет желтенькая божия коровка.
Наблюдаю трудный перелаз
И невольно восхищаюсь: ловко!
В небе тают белые клочки.
Покраснела грудь от ласки солнца.
Голый доктор смотрит сквозь очки,
И в очках смеются два червонца.
«Доктор, друг! А не забросить нам
И белье, и платье в сине море?
Будем спины подставлять лучам
И дремать, как галки на заборе…
Доктор, друг… мне кажется, что я
Никогда не нашивал одежды!»
Но коварный доктор – о, змея! —
Разбивает все мои надежды:
«Фантазер! Уже в закатный час
Будет холодно, и ветрено, и сыро.
И притом фигуришки у нас:
Вы – комар, а я – бочонок жира.
Но всего важнее, мой поэт,
Что меня и вас посадят в каталажку».
Я кивнул задумчиво в ответ
И пошел напяливать рубашку.
Я удрал из столицы на несколько дней
В царство сосен, озер и камней.
На площадке вагона два раза видал,
Как студент свою даму лобзал.
Эта старая сцена сказала мне вмиг
Больше ста современнейших книг.
А в вагоне – соседка и мой vis-а-vis[144]
Объяснялись тихонько в любви.
Чтоб свое одинокое сердце отвлечь,
Из портпледа я вытащил «Речь».
Вверх ногами я эту газету держал:
Там, в углу, юнкер барышню жал!
Был на Иматре[145]. Так надо.
Видел глупый водопад.
Постоял у водопада
И, озлясь, пошел назад.
Мне сказала в пляске шумной
Сумасшедшая вода:
«Если ты больной, но умный —
Прыгай, миленький, сюда!»
Извините. Очень надо…
Я приехал отдохнуть.
А за мной из водопада
Донеслось: «Когда-нибудь!»
Забыл на вокзале пенсне, сломал отельную лыжу.
Купил финский нож – и вчера потерял.
Брожу у лесов и вдвойне опять ненавижу
Того, кто мое легковерие грубо украл.
Я в городе жаждал лесов, озер и покоя.
Но в лесах снега глубоки, а галоши мелки.
В отеле всё те же комнаты, слуги, жаркое,
И в окнах – финского неба слепые белки.
Конечно, прекрасно молчание финнов и финок,
И сосен, и финских лошадок, и неба, и скал,
Но в городе я намолчался по горло, как инок[146],
И здесь я бури и вольного ветра искал…
Над нетронутым компотом
Я грущу за табльдотом[147]:
Все разъехались давно.
Что мне делать – я не знаю.
Сплю читаю, ем, гуляю —
Здесь – иль город: всё равно.
Декабрь 1909 или январь 1910
Нос твой – башня Ливанская, обращенная к Дамаску.