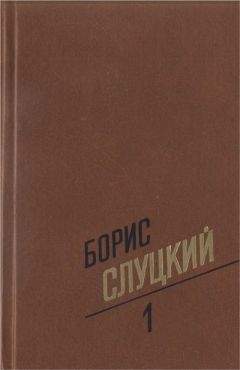МОИ ТОВАРИЩИ
Сгорели в танках мои товарищи —
до пепла, до золы, дотла.
Трава, полмира покрывающая,
из них, конечно, произросла.
Мои товарищи на минах
подорвались,
взлетели ввысь,
и много звезд, далеких, мирных,
из них,
моих друзей,
зажглись.
Они сияют, словно праздники,
показывают их в кино,
и однокурсники и одноклассник
стихами стали уже давно.
— Листок поминального текста!
Страничку бы в тонком журнале!
Он был из такого теста —
ведь вы его лично знали.
Ведь вы его лично помните.
Вы, кажется, были на «ты».
Писатели ходят по комнате,
поглаживая животы.
Они вспоминают: очи,
блестящие из-под чуба,
и пьянки в летние ночи,
и ощущение чуда,
когда атакою газовой
перли на них стихи.
А я объясняю, доказываю:
заметку б о нем. Три строки.
Писатели вышли в писатели.
А ты никуда не вышел,
хотя в земле, в печати ли
ты всех нас лучше и выше.
А ты никуда не вышел.
Ты просто пророс травою,
и я, как собака, вою
над бедной твоей головою.
Когда человек выбирал псевдоним
Веселый,
он думал о том, кто выбрал фамилию
Горький,
а также о том, кто выбрал фамилию
Бедный.
Веселое время, оно же светлое время,
с собой привело псевдонимы
Светлов и Веселый.
Но не допустило бы
снова назваться
Горьким и Бедным.
Оно допускало фамилию
Беспощадный,
но не позволяло фамилии
Безнадежный.
Какие люди брали тогда псевдонимы,
фамилий своих отвергая унылую ветошь!
Какая эпоха уходит сейчас вместе с ними!
Ее пожаром, Светлов,
ты по-прежнему светишь.
Он пил да не пропил
(он пьяница был, не пропойца),
большого и острого разуменья не выдал,
и не утратил пониманья пропорций,
и прямо смотрел. И дальше товарищей видел.
Он не изменял никогда своего поведенья,
похожего на карнавальное сновиденье.
С безжалостной нежностью вышутил дело и слово
своих современников, чаще всего — М. Светлова.
Смешно ему было, не весело, а забавно,
вставная улыбка блистала вставными зубами.
Мыслёнка шуршит неотвязная и сквозная,
и шарит и рыщет какого-то звука и слова.
Умер Светлов. А я до сих пор не знаю,
какая была фамилия у Светлова.
С прекрасною точностью определял он понятья,
как будто клеймил все подряд и себя без изъятья.
А что искривило насмешкой незлобною рот,
навеки в спирту сохранится
светловских острот.
Когда его выносили из клуба
писателей, где он проводил полсуток,
все то, что тогда говорилось, казалось
глупо,
все повторяли обрывки светловских шуток.
Он был острословьем самой серьезной эпохи,
был шуткой тех, кому не до шуток было.
В нем заострялось время, с которым
шутки плохи,
в нем накалялось время
до самого светлого пыла.
Не много мы с ним разговаривали разговоров,
и жили не вместе, и пили не часто,
но то, что не видеть мне больше
повадку его и норов, —
большое несчастье.
«В поэзии есть ангелы и люди…»
В поэзии есть ангелы и люди.
Есть демоны и люди.
Есть духи и великие старухи.
Есть неземные звуки и слова.
От естества ли, от сверхъестества,
от вещества земного иль эфира —
твоя гитара или, может, лира,
твои полметра или же полмира,
твоя Рязань или твоя Пальмира?
Все, чем душа жива ли, не жива.
Поэта подбирают,
как ходока:
дойти, куда надо,
сказать, что надо,
а если дорога нелегка,
так что же:
надо — значит, надо.
Поэт должен знать,
к кому идти,
как знал ходок, что идти нужно к Ленину,
и, выбрав путь, не сбиться с пути,
шагать и шагать
спокойно, уверенно.
Нет у поэта закваски, закалки
пахаря,
вздымающего поля.
То ему шатко, то ему валко;
уходит из-под ног земля.
Но чтобы поэт мог состояться,
он должен в очереди достояться,
чтобы выслушали,
чтобы услышали
и не тянули до бесконечности:
то ли на уровне власти,
выше ли,
на уровне истории, вечности.
А в общем этот умственный труд
тяжелей физического двужилья.
Те, кого не сомнут,
не сотрут —
честно заслужили.
Сарьян — в хрестоматии нашего глаза.
Он ясен для младшего школьного класса
и прост, словно воздух, которым дышу.
И больше я про него не пишу.
Сарьян — это выигранное сражение.
А слово — искусственное орошение
пустынь и полупустынь — песков.
Поэтому я приглашу Коджояна:
восстань из могилы!
Ты умер так рано!
Полотна развесь!
Покажись нам, Акоп!
Пусть медленные заведут разговоры
тобою нагроможденные горы.
Пускай нам окажут почет и доверье
тобою взращенные легкие звери.
Пусть птицы твои защебечут над нами,
обсудят, осудят мой каждый изъян
и с нами поделятся птичьими снами.
Какими — ты знаешь,
Акоп Коджоян!
И ежели ныне не встретишь оленя
и лани,
исполненной сладостной лени,
в горах и долинах армянской земли, —
они на холсты Коджояна ушли.
Я, сызмальства,
с Харькова,
с детства
узнавший
армянский рассудок, порядок и чин,
настаиваю,
чтоб на выставках наших
просторные стенки
Акоп получил.
О милый цветок каменистой земли
роскошествуй! Душу мою весели!
«Ответственные повествования…»
Ответственные повествования
словесность составили нашу,
случайные импровизации
в России не процвели.
Ни смутные волхвования,
ни сюрреализма каша
нашей цивилизации
впрок никогда не шли.
Российские модернисты
были ясны и толковы,
писали не водянисто
и здравого смысла оковы, —
пусть злобствуя и чертыхаясь,
но накрепко пригвоздя, —
они наложили на хаос,
порядок в нем наведя!
Как критики ни грызутся,
но в формуле нет изъятий:
отечественные безумцы
были здравых понятий.
«Когда откажутся от колеса…»
Когда откажутся от колеса,
когда его ходулями заменят,
а десятичная система счета
помрет, а синхрофазотроны
пойдут на переплавку —
Пушкина
все будут знать по имени и отчеству.
Я выбрал самую надежную профессию:
в ней все плохое
устаревает сразу, в чертежах,
а все хорошее
в двадцатом веке
не хуже, чем в двадцатом веке
до нашей эры.
Когда откажутся от рук и глаз,
от смелости и от любви,
тогда откажутся от нас —
от Пушкина.