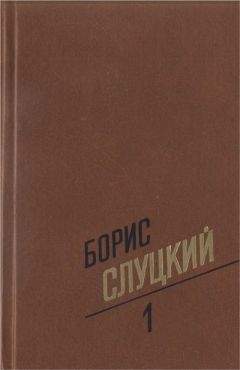ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АЛЬПАХ
Четыре верблюда на улицах Граца!
Да как же они расстарались добраться
до Альп
из родимой Алма-Аты!
Да где же повозочных порастеряли?
А сколько они превзошли расстояний,
покуда дошли до такой высоты!
Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда,
худые и гордые звери идут.
А впрочем,
я никогда не поверю,
что эти верблюды действительно звери.
Достоин иного прозванья верблюд.
Дивизия шла на верблюжьей тяге:
арбы или пушки везли работяги,
двугорбые, смирные, добрые,
покорные, гордые, бодрые.
Их было, наверное, двести четыре,
а может быть, даже и триста четыре,
но всех перебили,
и только четыре
до горного города Граца дошли.
А сколько добра привезли они людям!
Об этом распространяться не будем,
но мы никогда,
никогда
не забудем
верблюдов из казахстанской земли.
В каком-то величьи,
в каком-то прискорбьи,
загадочно-тихие, как гороскоп,
верблюды
проходят
сквозь шум городской.
И белые Альпы видны в междугорбьи.
Вдоль рельсов трамвайных проходит верблюд,
трамваи гурьбой за арбою идут.
Трамвай потревожить верблюда не смеет.
Неспешность
приходится
извинить.
Трамвай не решается позвонить.
Целая очередь грацких трамваев
стоит,
если тянется морда к кустам,
стоит,
пока по листку обрываем
возросший у рельс превосходный каштан.
Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда.
У маршала Толбухина в войсках
ценили мысль и сметку,
чтоб стучала,
и наливалась силою в висках,
и вслед за тем победу источала.
Сам старый маршал, грузный и седой,
интеллигент в десятом поколеньи,
любил калить до белого каленья
батальных розмыслов железный строй.
То латы новые изобретет
и производство панцирей наладит,
и этим утюгом по шву прогладит
врагов. Сметет и двинется вперед.
То учредит подводную пехоту,
которая проходит дном речным
и начинает страшную охоту
на немца,
вдруг возникши перед ним.
Водительство полков
не ремеслом
считал Толбухин,
а наукой точной.
Смысл западный
со сметкою восточной
спаяв,
он брал уменьем, не числом.
Жалел солдат
и нам велел беречь,
искал умы,
и брезгал крикунами,
и умную начальственную речь
раскидывал, как невод,
перед нами.
В чинах, в болезнях, в ранах и в летах,
с веселой челкой
надо лбом угрюмым
он долго думал,
думал,
думал,
думал,
покуда не прикажет: делать так.
Любил порядок,
не любил аврал,
считал недоработкой смерть и раны,
а все столицы — что прикажут —
брал,
освобождал все — что прикажут —
страны.
«Слышу шелест крыл судьбы…»
Слышу шелест крыл судьбы,
шелест крыл,
словно вешние сады
стелет Крым,
словно бабы бьют белье
на реке,
так судьба крылами бьет
вдалеке.
В девятнадцатом я родился,
но не веке — просто году.
А учился и утвердился,
через счастье прошел и беду
все в двадцатом, конечно, веке
(а в году — я был слишком мал).
В этом веке все мои вехи,
все, что выстроил я и сломал.
Век двадцатый! Моя ракета,
та, что медленно мчит меня,
человека и поэта,
по орбите каждого дня!
Век двадцатый! Моя деревня!
За околицу — не перейду.
Лес, в котором мы все деревья,
с ним я буду мыкать беду.
Век двадцатый! Место рабочее!
Мой станок! Мой письменный стол!
Клич победный! Мучительный стон!
Потому еще ближе, чем прочие,
что меня ты тянул и ковал,
словно провод меня протягивал,
то подкручивал, то подтягивал,
потому что с тобой — вековал.
«У времени вечный завод…»
У времени вечный завод,
как будто Второй часзавод
его собирал на конвейере.
Заведено на века,
как будто его в ОТК
Второго завода проверили.
Все кончится, что началось,
хотя бы сначала, как лось,
случайно забредший в Сокольники,
шумело, ревело, тряслось.
Все кончится, что началось.
Все кончится. Тихо. Спокойненько.
Полвека, что я проживу,
треть века, что я проработаю,
как лось, я сминаю траву
и розы на клумбах заглатываю.
Но время мое включено,
песок мой все сыплется,
сыплется, и надо дерзать или силиться —
кому что дано.
Нынешние студенты
гораздо лучше одеты,
чем я, когда я учился
в конце тридцатых годов.
Нынешние студенты
реже читают газеты.
Их занимают числа,
цифры забитых голов.
Нынешние — сытее,
шире в плечах, наверно.
У них другие идеи:
можно подумать неверно.
Мне было невозможно
хоть раз подумать ложно.
Страшное напряженье
в наших гудело мозгах,
чтобы ни нарушенья
в абрисе и мазках.
Через все наши споры,
помню, как сейчас,
лозунг прошел: саперы
ошибаются только раз!
Мины, мины, мины
выли вокруг меня.
Мало было мира.
Много было огня.
Мало было мыла.
Мало было хлеба.
Много было пыла.
Много было неба —
неба голубого
над зеленями полей.
Отрочества любого
мне мое милей.
«А я не отвернулся от народа…»
А я не отвернулся от народа,
с которым вместе
голодал и стыл.
Ругал баланду,
обсуждал природу,
хвалил
далекий, словно звезды,
тыл.
Когда
годами делишь котелок
и вытираешь, а не моешь ложку —
не помнишь про обиды.
Я бы мог.
А вот — не вспомню.
Разве так, немножко.
Не льстить ему,
не ползать перед ним!
Я — часть его.
Он — больше, а не выше.
Я из него действительно не вышел.
Вошел в него —
и стал ему родным.
«Интеллигенция была моим народом…»
Интеллигенция была моим народом,
была моей, какой бы ни была,
а также классом, племенем и родом —
избой! Четыре все ее угла.
Я радостно читал и конспектировал,
я верил больше сложным, чем простым,
я каждый свой поступок корректировал
Львом чувства — Николаичем Толстым.
Работа чтения и труд писания
была святей Священного писания,
а день, когда я книги не прочел,
как тень от дыма, попусту прошел.
Я чтил усилья токаря и пекаря,
шлифующих металл и минерал,
но уровень свободы измерял
зарплатою библиотекаря.
Те земли для поэта хороши,
где — пусть экономически нелепо —
но книги продаются за гроши,
дешевле табака и хлеба.
А если я в разоре и распыле
не сник, а в подлинную правду вник,
я эту правду вычитал из книг:
и, видно, книги правильные были!