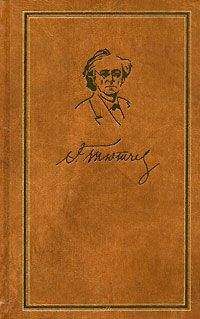Но возвращаюсь к моим виршам: делайте с ними что хотите, без всякого ограничения или оговорок, ибо они ваша собственность…* То, что я вам послал, составляет лишь крошечную частицу накопившегося за годы вороха. Но рок или скорее некий небесный промысел распорядился им по справедливости. По моем возвращении из Греции*, принявшись как-то в сумерки разбирать свои бумаги, я уничтожил большую часть моих поэтических упражнений и заметил это лишь много времени спустя. В первую минуту я был несколько раздосадован этим, но скоро утешил себя мыслью о пожаре Александрийской библиотеки. — Тут был, между прочим, перевод всего 1-го действия второй части «Фауста». Может статься, это было лучшее из всего.
Однако, если вы упорствуете в своем желании заняться изданием, обратитесь к Раичу, проживающему в Москве, пусть он передаст вам все, что я когда-то отсылал ему и что частью было помещено им в довольно пустом журнале, который он выпускал под названием «Бабочка»…*
Но довольно об этом предмете… Подробности, сообщенные вами о нашей прекрасной Эсфири и ее Мардохее, очень меня потешили…* Он неизбежно должен производить весьма забавное впечатление на человека, который, зная его подобно вам, имеет возможность наблюдать его в новом его положении. Сколько хлопот доставит он себе по-пустому! Как тщательно станет зашифровывать то, что можно безнаказанно поместить в «Санкт-Петербургских ведомостях». Надеюсь, однако, что весь этот избыток хитроумия и осмотрительности не поставит его в неловкое положение. Впрочем, восхитительный нрав его жены сумеет, в случае надобности, предохранить его от следствий его осторожности. Его друзьям (будь они у него) следовало бы беспрестанно обращаться к нему с теми же увещаниями, с какими обращаются к людям, путешествующим по горам на маленьких горных лошадках, каждый шаг коих столь верен и ловок. Мне до смерти хочется написать сей особе, госпоже Амалии, само собою разумеется, но препятствует этому глупая причина. Я просил ее об одном одолжении, и теперь мое письмо могло бы показаться попыткой о нем напомнить. Ах, какая напасть! И в какой надо быть нужде, чтобы так испортить дружеские отношения. Все равно, как если бы кто-нибудь не нашел иного способа прикрыть свою наготу, как выкроить панталоны из холста, расписанного Рафаэлем… И, однако, из всех известных мне в мире людей она, бесспорно, та личность, по отношению к которой мне было бы наименее тягостно чувствовать себя обязанным…
Ваш дядя* уехал дней десять тому назад в Карлсбад, оставив меня в довольно большом затруднении… Уезжая, он пожелал возложить на меня полномочия поверенного в делах при Гизе*, увещевая меня в то же время не сообщать об этом в Петербург, в Министерство. Это все равно что отправить письмо на почту, не написав на нем адреса. Несмотря на всю готовность ему служить, я не мог исполнить его желание, так как на другой же день по его отъезде получил бумаги, кои принужден был переслать в департамент. Таким образом, его инкогнито в Карлсбаде находится под серьезной угрозой.
Мюнхен опустел. В прошлом месяце я ездил курьером в Вену, где провел недели две. Моя жена еще не вернулась*. Ожидаю ее в течение этой недели. В Мюнхене видишь либо беременных, либо только что разрешившихся женщин. В числе первых прекрасная госпожа Анна*, которая обосновалась в доме Майо в Английском саду. Сейчас это единственное обитаемое место Мюнхена… Скоро и оно станет недоступным… Принц Карл уже принялся молиться*, а Вебер почти закончил приданое для новорожденного… Не пишу вам про свадьбу Бургуэна с мадемуазель Идой*, так же как про покушение Алибо*. Подобные нелепости всегда узнаются мгновенно… Почти все верхи дипломатического корпуса разъехались, здесь двигаются лишь membra disjecta* животного. Это, однако, не мешает погоде вот уже две недели быть просто восхитительной. Госпожа де Сетто находится в Эглофсгейме вдвоем с нунцием, и уж конечно не я стану нарушать их уединение. Что касается… но довольно собственных имен.
Прощайте.
Ф. Тютчев
Гагарину И. С., 10/22 июля 1836*
31. И. С. ГАГАРИНУ 10/22 июля 1836 г. Мюнхен
Munich. Ce 22 juillet 1836
Mon cher Gagarine,
Il y a deux jours je vous ai écrit pour mon propre compte. Maintenant c’est pour celui de la Comtesse Jeannette P<aumgarten>* qui vous prie de vous charger de l’incluse et de la faire parvenir en contrebande aux belles mains auxquelles elle est destinée. Tâchez de vous acquitter à votre honneur de ce petit acte de trahison. Il y a ces cas, après tout, où le but justifie les moyens, et comme dans le cas dont il s’agit c’est incontestablement Madame <Krüdener>* qui est le but de la lettre, ce but-là pourrait justifier des énormités bien plus grandes encore… Je suppose que maintenant les moments sont moins rares où l’on peut parler à notre belle amie autrement qu’entre six yeux. Que j’aimerais à la revoir dans un de ces moments-là… Jeannette et moi, nous parlons souvent d’elle, mais tout cela est vague et ne me satisfait pas. Au fait ce n’est qu’avec elle-même que j’aime à parler d’elle, car, après moi, c’est encore elle-même qui se connaît le mieux… Dites-lui de ne pas m’oublier, mon individu s’entend, rien que mon individu, qu’elle oublie tout le reste… Dites-lui que si elle m’oubliait il lui arriverait malheur… Il lui viendrait une petite ride au front ou à la joue, ou une petite mèche de cheveux gris, car ce serait une apostasie envers les souvenirs de sa jeunesse… Mon Dieu, pourquoi en a-t-on fait une constellation…* elle était si bien sur cette terre.
Adieu, mon cher Gagarine. Je me sens d’humeur à vous écrire des volumes aujourd’hui, mais la nécessité sous la figure de Moritz*, que bien vous connaissez, est là, qui m’oblige de m’interrompre… Et je puis à bon droit dire de lui ce que Démosthène, je crois, disait de ce Grec dont j’ai oublié le nom: c’est la hache qui coupe mes paroles*. Adieu, ce sera pour une autre fois.
Tout à vous
T. Tutchef
Перевод
Мюнхен. 22 июля 1836
Любезный Гагарин,
Два дня тому назад я писал вам по собственному почину. Теперь пишу вам по поручению графини Жаннеты Паумгартен*, которая просит вас контрабандным путем доставить прилагаемое письмо в прелестные руки, коим оно предназначается. Постарайтесь с честью совершить это маленькое предательство. Ведь бывают же случаи, когда цель оправдывает средства, а так как в настоящем случае целью письма, бесспорно, является госпожа <Крюденер>*, то подобная цель может оправдать еще большие крайности… Полагаю, что теперь чаще выпадают минуты, когда с нашей прекрасной приятельницей можно беседовать не в присутствии третьего, а с глазу на глаз. Как я желал бы повидать ее в одну из таких минут… Мы с Жаннетой часто говорим о ней, но все это туманно и не удовлетворяет меня. На самом деле я только с ней люблю говорить про нее, так как после меня она сама лучше всех себя знает… Скажите ей, чтобы она меня не забывала, мою особу, разумеется, одну мою особу, все остальное она может забыть… Скажите ей, что, если она меня забудет, ее постигнет несчастие… Выступит морщинка на лбу или на щеке, или появится прядка седых волос, ибо это было бы предательством воспоминаний ее молодости… Боже мой, зачем ее превратили в созвездие…* она была так хороша на этой земле.
Простите, любезный Гагарин. Сегодня у меня достаточно вдохновения, чтобы написать вам тома, но необходимость в образе хорошо известного вам Морица* вынуждает меня прервать мои излияния… И я с полным основанием могу сказать про него то, что, кажется, Демосфен говорил про того грека, имя коего я позабыл: это топор, пресекающий мои слова*. Простите, напишу вам в другой раз.
Весь ваш
Ф. Тютчев
Тютчевым И. Н., Е. Л. и др., 31 декабря 1836/12 января 1837*
32. И. Н., Е. Л. ТЮТЧЕВЫМ и Д. И. СУШКОВОЙ 31 декабря 1836/12 января 1837 г. Мюнхен
Munich. Ce 31 décembre 1836/12 janvier <18>37
Cette lettre, chers papa et maman, vous sera portée par le g<énér>al Boudberg, envoyé ici par l’Empereur en mission spéciale* et qui repart aujourd’hui. Il nous est arrivé ici dans un mauvais moment et ne remportera que de tristes impressions de Munich. La maladie qui nous afflige depuis trois mois* a — il est vrai — considérablement baissée, mais par je ne sais quelle bizarrerie ses derniers choix sont touchés presque tous sur des personnes de la société. Il est certain que pour la plupart c’étaient des personnes âgées ou infirmes, mais pas moins des cas de mort aussi rapprochés et aussi soudains ne pouvaient manquer de produire une sensation pénible et ont étendu le deuil à la société toute entière. A cela est venu se joindre un deuil de cour*, si bien que nous avons du noir jusque par-dessus les oreilles. C’est au milieu de tout ce noir que nous avons commencé la nouvelle année catholique et que nous achevons la nôtre. C’est le cas plus que jamais de faire des vœux pour celle qui vient et je vous adresse les miens, du fond du coeur. Ma santé pas plus que celle de Nelly et des enfants* ne s’est autrement ressentie de la disposition générale, et le moral s’est maintenu tout aussi intact. En dépit de ses démonstrations multipliées, le choléra n’a pas réussi à faire la moindre impression sur nous. Voilà six ans que j’en ai les oreilles rabattues, et sa présence à Munich n’est pas parvenu à le rafraîchir à mes yeux. Mais je suis plus sensible à ses effets indirects. Munich qui n’est jamais rien divertissant est maintenant d’une tristesse et d’un ennui dont il serait difficile de se faire une idée. C’est comme un homme naturellement insipide et maussade qui aurait la migraine. On s’attendait à quelque fête pour l’arrivée du Roi Othon et de sa jeune femme. Mais le choléra les a empêchés de venir à Munich. Ils sont allés prendre congé de leurs parents au château de Tegernsee* à 18 lieues d’ici.
Vous savez mon histoire. J’avais demandé un congé pour aller passer cet hiver avec vous. Mais quand ce congé est arrivé, le Prince Gagarine m’a demandé avec instance de différer jusqu’au printemps pour en faire usage. Et certes, il m’eût été difficile de le laisser seul dans l’état où il est. Depuis trois mois il dépérit à vue d’œil. Il n’a pas bougé de sa chambre depuis l’entrée de l’hiver, et maintenant c’est à peine s’il quitte son lit. C’est un homme qui s’en va à grands pas. Je doute fort qu’il puisse traîner jusqu’au printemps. Sa femme qui est revenue ces jours-ci de Paris a été effrayée de l’état dans lequel elle l’a trouvé. Pauvre cher homme. Il me fait une peine réelle. Il meurt cassé, blasé et endetté. C’est expier durement quelque bon moment de sa vie. Vous comprenez que dans ces circonstances toute la besogne roule plus que jamais sur moi seul et si je pouvais encore prendre quelqu’intérêt aux affaires, je me félicitais assurément de la complaisance que j’ai eu de rester.