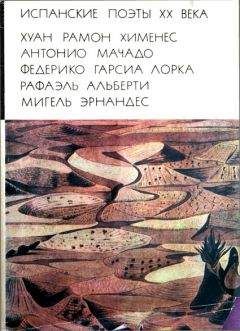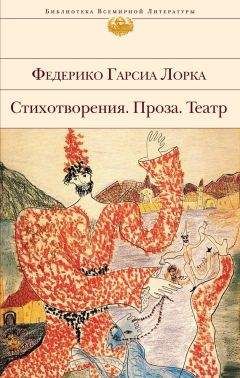ТЮРЬМЫ
Перевод Д. Самойлова
I
Ползут тюрьмы по сырости мира через слякоть,
волочатся по темным путям осужденных,
им нужен народ, человек, чтоб выследить, сцапать,
чтоб засосать, проглотить.
Не только видно, но слышно, как тоскует металл,
как плачет карающий меч в руках правосудья,
как плачет поверженная опозоренная сталь
в сером цементном растворе.
Там, за стеной, в тюрьме — фабрика плача и стона,
там прядильные станы, ткацкие станы слезы,
остов ненависти, надежда, бьющая в стены, —
спрядут, соткут и утопят.
Когда куропатки осипли и переплелись,
а любвеобильная синь исполнена сил,
человек одинокий и серый, как палый лист,
вспоминает землю и свет.
Свобода и утро бесплодно бьются о камень,
мятущийся человек, его шаги, голова,
пена на губах, пена, рвущаяся из камер:
порыв, человек, свобода.
Человек, что вдыхает и выдыхает весь ветер,
распахнув огромные крылья своего сердца, —
он везде человек — в любом каземате на свете,
пронизанный каждой стужей.
Человек, которому снились морские дали,
ломает крылья, как стреноженные молнии,
с отрясает решетку, негодует, глодая
грохочущее железо.
II
Мы сражаемся не за расслабленного вола,
но за коня, который видит, как тлеет грива,
и чувствует, в бешенстве грызя свои удила,
как дряхлеет его галоп.
Сотрите плевок с его опозоренной щеки,
разорвите цепи, сковавшие сердце мира,
заткните глотки тюрем, гордые бунтовщики,
ибо в тюрьмах бессильно солнце.
Гниет ощипанная свобода на языках
ее прислужников, а не ее властителей.
Разбейте же цепи на закоченевших руках
извечных ее рабов,
тех, что хотят покинуть свое лишь заточенье,
свой закуток и от цепей освободить себя.
А вызволив себя — теряют оперенье,
и плесневеют, и ползут.
Они закованы навек, извечно, навсегда.
Свобода по плечу лишь необычным людям,
которых в камерах тюрьмы так ясно вижу я,
как будто сам я среди них.
Запри замок, задвинь засов и выставь караул,
вяжи его, тюремщик, ведь душу ты не свяжешь.
Какой бы ключ ни подобрал и как бы ни замкнул —
нельзя связать его душу.
Цепи нужны и узы, но только узы крови,
железо вен, огонь и звенья кровного родства,
узы согласья, связи по духу и основе,
людская, человечья связь.
На дне бездонной ямы ожидает человек,
напряженно прислушиваясь, наставив ухо;
народ призвал: «Свобода!» — и небо взлетело вверх,
и тюрьмы взлетели следом.
НАРОД
Перевод Д. Самойлова
Что такое оружье? Кто сказал — оно сила?
Нет, оно — малодушье; нет оружия лучше,
чем вот это орудье, снаряженное костью:
погляди-ка на руки свои.
Вот пулемет, самолет, бомбомет, и вот народ,
а оружье не в счет против упрямой отваги,
что в прочнейшем скелете твоем копытами бьет
и фыркает, словно лошадь.
Пушке не одолеть того, что вершит пятерня:
у пушки нет огня, которым стреляют руки,
нету сердца, чья пламенная тугая струя
очерчивает человека.
Что стоит оружье, в котором не властвует кровь,
против народа, горделиво сжавшего скулы,
оружье ничто, оно безголосо, безлобо,
в нем лишние грохот и злоба.
Оружье добьется немногого — сердца в нем нет.
Оно разлучит только два обнявшихся тела,
но будут все так же четыре влюбленных руки
отыскивать жадно друг друга.
Оно убьет мужчину, и в материнском чреве
убьет дитя, пропитанное грядущим и тенью,
но, несмотря на взрыв, разметавший в кусочки плоть,
матерью всегда пребудет мать.
Народ — ты поток, который хотят обессилить,
но перед оружьем ты бьешь и сильнее и выше,
и оружье тебя не уймет — не хватит пальцев,
у тебя достаточно крови.
Оружье это — немощь. Настоящий мужчина
обороняется и одолевает костьми.
Вглядитесь в эти слова. Когда в них погрузишься,
они — как взволнованный фосфор.
Безоружный мужчина всегда — твердая глыба,
он верит в стойкость, он будет стоять — и ни с места.
Народы спасает сила, которая веет
в мощном дыханье его мертвых.
САНИТАРНЫЙ ПОЕЗД
Перевод Д. Самойлова
Даже пробитая насквозь тишина
не перестает быть безмолвием,
канув в каменный рот безмолвной ночи.
Слышен только остывший говор мертвых.
Мостит дороги глубочайшей ватой,
кляп вставляет колесам, механизмам,
сдерживает говор голубя, моря,
лихорадит ночные сновиденья.
Поезд дождя из вспоротых артерий,
хрупкий поезд истекающих кровью,
поезд молчащий, болезненный, бледный
беззвучный поезд страданий и боли.
Поезд нарастающей бледности щек,
бледности, искажающей облик лиц,
стонущих голосов, сердец и земли, —
стонут — а-а-а! — раненые сердца.
Они лишаются рук, ног или глаз,
они теряют в поезде свою плоть,
они волочат за собой Млечный путь
недуга, горечи и телесных звезд.
Поезд осипший, ослабший, багровый;
умирает уголь, издыхает дым,
и по-матерински вздыхает поршень,
поезд растянутый, как уныние.
Как хотело бы это продолговатое лоно
залечь в туннеле, растянутся, плакать.
Но нету станции для остановки,
нет — кроме печали и лазарета.
Чтобы жить, достаточно части тела:
человек вмещается в куски плоти.
Мизинец или сочлененье крыла
могут заставить воспрянуть все тело.
Задержите вымирающий поезд,
который заплутался в дебрях ночи.
У лошади с ног спадают подковы,
вязнут копыта и вянет дыханье.
18 ИЮЛЯ 1936 — 18 ИЮЛЯ 1938
Перевод О. Савича
Не град, а кровь мои виски стегает.
Два года крови, как два наводненья,
и кровью злое солнце истекает,
и пуст балкон, и валятся строенья.
Тех благ, что кровь, никто не достигает.
Кровь для любви копила озаренья,
а мутит море, поезд настигает,
страшит быков, где львам внушала рвенье.
И время — кровь. Оно ворвалось в вены.
Часы, заря и ранят и карают,
гремят все виды крови, как гроза.
Ту кровь и смерть не сделает забвенной:
не меркнет страстный блеск — его вбирают
мои тысячелетние глаза.
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ
Перевод О. Савича
Нет, он не пуст, — окрашен
мой дом, мое созданье,
окрашен цветом горьких
несчастий и страданий.
Он вырвется из плача,
в котором встал когда-то
с пустым столом без крошки,
с разбитою кроватью.
В подушках поцелуи
распустятся цветами,
и простыня совьется
над нашими телами
густой ночной лианой
с пахучими венками.
И ненависти бурю
мое окно удержит.
Из книги
«РОМАНСЕРО РАЗЛУК» (1939–1941)
«Чернота в зеницах…»
Перевод Юнны Мориц
Чернота в зеницах.
Рассветала эра
на твоих ресницах
черного размера.
О, награда взгляда.
Эра гаснет, гаснет
на твоих ресницах
черных и ненастных.
* * *
«Поцелуй был такой глубины и силы…»