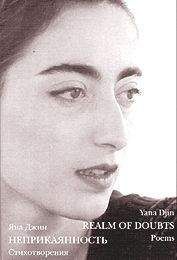Пер. Бахыт Кенжеев
Сие — попытка отыскать
иголку в стоге сена,
чтобы случайно не назвать
тоску или измену
по имени. Чтобы найти
в трёх соснах лес дремучий.
И, как по лезвию, пройти
к судьбе — одной из лучших.
Чтобы при встрече под луной,
когда она случится,
услышать «Прав я?» и к другой
луне оборотиться.
Сие — попытка оправдать
молчание у гроба,
чтобы случайно не сказать
чего-нибудь другого…
И стул, чей скрип внушает страх —
единственный свидетель превращенья
бумаги в кожу! Далее в стихах —
не то, что память, но уже — прощенье
отсутствия певца. И хор молчит.
Безмолвствует, как треснутая лира
в руках Творца. И где-то там, в ночи,
во след певцу качается секира
и чей-то голос жалобный звучит.
Сие — попытка голос обрести,
не тот, — другой, который в половине
родившихся детей звучит
и властвует. Отныне
лишь он — возможность будущему жить,
где тень земная между сосен бродит,
пытаясь отыскать спасенья нить,
как та змея в Начале, что-то вроде
кривой с координатой «мы» на Х,
помноженной на мщенье Иисуса.
Сие — попытка Там тебя окликнуть.
Сквозь пустоту — услышать, прикоснуться,
пробормотать «Спасибо!» В этот час
лишь ангелы над смертными смеются,
но звук летит и достигает края,
где содержание не властвует над звуком,
и где герой не шепчет «Умирай!»,
а, прислонясь уже прозрачным ухом
к просвету в облаках, он слышит вдруг
как я шепчу ему: «Послушай!»
И, отрываясь от чернильных рук,
звук исчезает… Так, наверно, души,
как мотыльки, летят на новый звук.
Пер. Андрей Драгунов
Поэзия — я тоже недолюбливаю это.
(Мэриэн Мур)
А что стихи? — свидетельство гордыни,
свидетельство того, что он, поэт,
бессрочно заперт, как вода в графине,
в самом себе, того, что много лет
в глуши души, уподобляясь волку,
мечтал, что книга с именем его
найдёт приют на чьей-то пыльной полке.
А что ещё? А больше — ничего.
Вся жизнь, витиеватая, как букли,
паденье, взлёты, торжество идей —
всё это — только буквы, буквы, буквы,
замызганные пальцами людей,
не знающих ни самого поэта,
ни вкуса крови, источавшей звук.
Но может быть, «лучом младого света»
его строку однажды назовут.
И что?
Ведь ночь — свидетельница страсти,
принявшая обличье чёрной власти
над криками сверчков
и над луной,
куда реальней и куда прекрасней
строки одной. И даже — не одной.
Ведь жизнь прекрасна
даже без прикрас,
поскольку жизнь даётся только раз.
Жить тем, что будет после —
будет поздно,
поскольку всё, что к нам приходит после —
ничто.
Не-Бог,
не-чёрт,
не-пустота,
не-сон,
не-явь,
не-зло,
не-доброта,
не-ложь,
не-правда,
не прикосновенье
рук Шивы,
не плохое настроенье,
ни света — дням,
ни транса перед сломом,
ничто — что нам не обозначить словом.
Пер. Ефим Бершин
Никто не поймёт —
как получилось:
то, что любила,
убыло с пылью.
Вчерашний вздох
спирает горло.
Дохлые крысы
гниют соборно
в лужах отхожих.
Всё, что природе
стало негоже, —
она изводит.
Судьбы твоей дням
не срифмоваться.
Мыслям разбродным
не рассосаться, —
подобно толпе
уличной ночью,
что болью потом
память источит.
Но общие в памяти
вещи и звуки
лишают смысла
«потом». И потуги
проникнуть туда,
как в игольное ушко,
напрасны. Верблюд
ушлый из ушлых
в него не посмеет
проткнуться, — кичиться
победой стоической,
приобщиться
к славе Христовой.
Пустыня стонет:
вульгарная юность
её уж не тронет.
Пер. Нодар Джин
С тех пор, как умер ты, ничто не изменилось.
Ничто и не должно было — наверно.
Всё хорошо по-прежнему, уныло.
Так лист пустой лежит безверно, —
без упования на мысль и краску…
Всему завязка — доллар, как и было.
И, как и было, меньше значит кто ты есть,
чем с кем была, — жила, водилась.
И, как и прежде, небольшая честь,
на мир смотря издалека, твердить о том,
что это — дом терпимости.
Но всё же — дом…
Ничто не изменилось. И боюсь,
ничто и не изменится отныне.
Для этого необходим союз
отваги с волей. А точнее, — крестовина.
Ещё — готовность в крест раскинуть руки.
Ничто не изменить без муки.
Но мы расстаться не умеем даже
с ушедшим миражом. Начаться снова.
Спряженье страхов и отрад дешёвых —
вот что такое человек. Ажиотажа
он никогда не стоил. Не ошибка
природы. Не трагедия. Не шибко
что-нибудь вообще. Вот, скажем, дверь.
Он вознамерился её открыть, —
но как бы брезгует. Или не верит,
что хочет… Проявляя прыть
в пустом смотреньи в сторону пустой
стены, где эта дверь. И в позе той
одной он постоянствует. Но тень
на той стене его бледнеет что ни день
и постепенно сходит в грязное пятно,
которому движенье не дано.
Ничто не изменилось.
Может, — я немного.
Боюсь — не к лучшему.
Когда-то я слезилась
при виде чайки на закате. Одинокой.
Теперь уж нет. Теперь уже слеза —
такая трудность… Как побить туза.
Ещё, боюсь, по ходу этих дней
неумолимей стала я. Трудней.
Как тот отставленный любовник,
что не побил привычку, — верную жену.
Любовь беснуется иль топчется виновно, —
не склонна жизнь пускать её в свою страну.
Теснит со всех сторон. Бесшумно
колотит доводом благоразумным —
и приучает нас считать привычку
самой любовью: как кавычку и кавычку,
не различаем свой и посторонний дом,
когда подолгу в доме том живём.
Добропорядочности вымученной цвет
на наших лицах проступает. Стёрты
следы страстей. Что ни лицо, — портрет
усовестившегося чёрта.
Не доброту года несут ему, — морщин
тугую сеть, в которой вязнут нимфы,
заладившие: «Чистоты причина —
усталость плоти, помутненье лимфы.»
И вот тогда Своим мы нарекаем Домом
плавучий остров, Несвоейземлёй рекомый.
Тогда — кого любили, изживаем
во имя тех, с кем время убиваем.
А вместе с ним — себя. Мы умиранию
с корнями — учимся во имя выживания.
И начинаем из последних сил цепляться
за жизни полу-затонувшей остров-круг.
Полу-чужой, полу-знакомый… Нам сдаваться
пора. Исторгнуть исступлённый вой.
И вздрогнуть в тошном страхе, если вдруг
мы это назовём Судьбой.
Пер. Нодар Джин
Мы всё имели ровно,
Но он в дерьме
Копаться хладнокровно
Не умел.
Он притворялся трупом,
А мертвецу
Существованье — глупо,
Не к лицу.
И жил он, как затворник
Не жил, — тужил. А
Я в портах позорно
Жила-грешила.
Мы в жизни были швахи.
Печаль одна
Была у нас. И страхи
Одни. Вина
Одна. И лгали часто,
Но он ко лжи
Постольку был причастен,
Поскольку жил.
Своею жизнью мало
Он дорожил, —
Как будто ему дали
Помятый джип
Или такую тёлку,
Что не помять.
Но он молчал. Он только
Не мог понять,
Что я, как звуки в джазе,
Как в зубе дрель,
Кручусь, кричу в экстазе
«Движенье — цель!»,
Что не пойму того я,
Что жирный класс
Пугается не воя,
А держит глаз
На нём, молчащем, зная,
Что прошибьёт
Его слеза больная —
И он… споёт:
«Послушай, мазефакер,
Язык твой лжив!
Как твой же член, обмяк он —
Ни мёртв, ни жив!
Всего дороже деньги
Тебе, твой жир!
А я точу на слэнге
Слова-ножи!
Хана тебе без рэпа!
И с ним хана!
Истина свирэпа!
Щупай — на!»
Пер. Нодар Джин