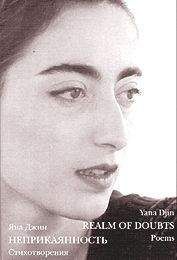Пер. Нодар Джин
Мы всё имели ровно,
Но он в дерьме
Копаться хладнокровно
Не умел.
Он притворялся трупом,
А мертвецу
Существованье — глупо,
Не к лицу.
И жил он, как затворник
Не жил, — тужил. А
Я в портах позорно
Жила-грешила.
Мы в жизни были швахи.
Печаль одна
Была у нас. И страхи
Одни. Вина
Одна. И лгали часто,
Но он ко лжи
Постольку был причастен,
Поскольку жил.
Своею жизнью мало
Он дорожил, —
Как будто ему дали
Помятый джип
Или такую тёлку,
Что не помять.
Но он молчал. Он только
Не мог понять,
Что я, как звуки в джазе,
Как в зубе дрель,
Кручусь, кричу в экстазе
«Движенье — цель!»,
Что не пойму того я,
Что жирный класс
Пугается не воя,
А держит глаз
На нём, молчащем, зная,
Что прошибьёт
Его слеза больная —
И он… споёт:
«Послушай, мазефакер,
Язык твой лжив!
Как твой же член, обмяк он —
Ни мёртв, ни жив!
Всего дороже деньги
Тебе, твой жир!
А я точу на слэнге
Слова-ножи!
Хана тебе без рэпа!
И с ним хана!
Истина свирэпа!
Щупай — на!»
Пер. Нодар Джин
И потом Он узрел Марфу и Марию, оплакивавших брата своего, Лазаря.
(Из показаний апостола Марка)
Помилуйте! Но я совсем не Марфа!
Я не сестра ему. А от изгоя
не надо ждать ни мира, ни покоя
ни вашей обожравшейся стране,
ни Лазарю.
Жуликоватый Лазарь —
ему бы только по сусекам лазать,
подохнуть, обожравшись, а, воскреснув,
рыгнуть во след прокисшим облакам.
И он уже напрягся. Но Мария
и Марфа, как на реках Вавилонских,
завыли так, что чуть не уморили
животным криком самого Христа.
Завыли так безумно, дико, страстно,
как жалкие озлобленные птицы,
на клочья разодравшие пространство.
И Лазарь в этом крике утонул.
Откуда боль? — Засомневался Плотник
Сын плотника же и Святаго Духа. —
Откуда боль, когда мгновенной плоти
жить дважды в этом мире не дано?
Ведь боли не бывает без страданий,
без мукой перекошенного рта.
Отдай им дань. Без этой страшной дани
любая жизнь ничтожна и пуста.
Зато потом ты выйдешь из пещеры
святейшим из святых. И люди будут
ничтожные, но добрые как будто,
как стая птиц кружить над головой.
И будут петь осанну! А, напевшись,
тебе ножом пересчитают рёбра
однажды ночью или утром ранним.
Но этот нож тебя уже не ранит.
Что вечности отравленный металл?
Что вечности озлобленные лица?
А потому — покинь свою гробницу.
Вставай. Я вижу: ты уже восстал. —
Так говорил угрюмый Назорей.
Но резвый Лазарь обнаружил слёзы,
блестевшие, как росы на заре,
растрогав Человеческого Сына.
Но я не зарыдаю. Я — не Марфа.
Я в это не играю. Я — не вы.
Прости, Господь, но мир достоин мата,
как Лазарь твой, что на исходе марта
тобою воскрешён был для жратвы.
Пер. Ефим Бершин
Поэт на площади поэта —
Маяковского площадь это —
Сидит на площади поэта —
Ясно?
Поэт говорит, что несправедливо —
Устроена жизнь. Гнусно и криво —
Даже улыбка её тосклива —
Напрасна.
Поэт говорит о вещах несвоих —
О деньгах, бабах, предметах других —
Точит поэт о предметах чужих —
Лясы!
Поэт говорил и качался, как раби —
Как рассерженный Хаммураби —
За то, что сожгли закон Хаммураби, —
Дожил!
Поэт разговаривал — тонкий, как цапля, —
Как в шприце для героиновых каплей —
Игла, в венозный воткнутая кабель —
Заслужил!
Он говорил: Дайте что круто!
Дайте мне всё в эту минуту!
Дайте валюту!
Лучшие блюда!
Девок для блуда!
Лихие маршруты!
Дайте мне!
Дайте!
Дайте!
Поэт говорил, я сидела, молчала —
О, нет, мы не хлебом единым, не налом —
А страха живём единым началом —
Знайте!
Взгляд у тебя жестокий и близкий —
Чего в нём больше: «жестокий», «близкий»? —
Тебе, как и мне, не поклонятся низко! —
Живи ж без риска!
Поэты на площади были поэта —
Вдвоём — да на площади поэта —
Их повенчала кратко беседа —
Негласно.
Пусть любовь придёт на мгновение только —
Для мгновенного озарения только —
Мгновенного видения только —
Прекрасно!
Пришельца от любого завета —
Считайте братом, которого нету —
Когда он приходит на площадь поэта.
Я сделала это!
Пер. Нодар Джин
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ САМОУБИЙЦЫ
Мой милый мальчик,
ты, как в люльке,
качаешься в холодной петле
меж небом и землей,
как в люке,
как в старой колыбельной песне,
где вестник голубиной почты —
с кольцом, как с перебитым нервом.
И цепь, что связывала с почвой,
сегодня связывает с небом.
И губ застывшая фиалка
перекусила жизни нить.
Никто не нанял катафалка,
чтобы с тобой похоронить
и боль от твоего ухода,
и безразличие людей.
На нас давно идёт охота,
как на осенних лебедей.
Без похоронного Шопена
ты с гибелью повенчан, без
ненужных слёз.
И только пена
сверкнула белизной небес
у самых губ.
И только мама,
на дальнем берегу бродя,
зашлась слезами, как туманом.
Смерть выпадает, словно манна,
для заблудившихся бродяг.
Но океан рассёк, как плетью,
два мира, как стальное жало.
И эта плеть, свернувшись в петлю,
увы, тебя не удержала
от пережитых многократно
печалей.
Мальчик мой, мужчина!
Не всё бессмысленно, что кратко.
Не всё, что кратко, — беспричинно.
Вы, люди! Вы — рабы рассудка,
Щедрот, упрятанных в дома.
Я вою, как дурная сука,
над грудой вашего дерьма.
Но вы, пропитанные ядом
приспособленчества и лжи, —
о вас, о камень ваших взглядов
разбита маленькая жизнь.
Но нет — не мужества, не силы
ему не доставало тут.
Ему не доставало сини,
в которой облака растут.
Мы — зёрна одного початка,
вся наша жизнь — наоборот.
Ты видел, как отводит чайка
остроконечный, чёрный рот
от рук дающего? В истоке
гордыни истина лежит:
рука дающего в итоге
ещё способна задушить.
Когда б ты подождал, Алёша,
то стал значительно мудрей.
Но ты лежишь на смертном ложе
среди людей и нелюдей.
И что тебе до наших истин?
И что тебе простая суть?
Ты обратился с вечным иском
в холодный, вечный Высший Суд.
В стремительном порыве страстном
из сорной ринулся травы —
туда, где делятся пространством,
а не остатками жратвы.
Уходят братья по печали,
оставив чуть заметный след,
такими ясными ночами,
в которых даже страха нет
я верю: ты теперь спокоен
и видишь медленные сны
под медный лепет колоколен
твоей оставленной страны.
Сочится благодать по капле.
Ты — здесь. Ты — рядом. Ты — нигде.
Ты весь — как сон болотной цапли
на тонкой матовой ноге.
Пер. Ефим Бершин
Послушай.
Я в болях.
И это так.
Несущее считала долго сущим —
и соответственно мой каждый шаг
был поражение несущим. Кое-как
я собирала их, шаги. Усталый холостяк
так тащит в дом дешёвые вещицы
с развала мелочей, — предполагает:
без причиндалов сих не перебиться
когда жениться наконец решится.
Пока ж он чинно колесо вращает
его несущее к не сущей Беатриче, —
юнцы в него причинным пальцем тычат
и о добыче голубой курлычат.
Торгуясь о цене, он то кричит, то хнычет,
лишаясь чинности. Потом их молит:
«Полегче, и не причиняйте только боли!»
В невинности его сумняшеся, они
кричат: «Заткнись и перегнись!»
И он перегибается.
А что ему осталось?
Осталась Беатриче.
Но она не объявлялась…
Послушай.
Я устала.
И очень, и давно.
От будущего.
Мало
мне нравится оно.
Я хороню
его скучнейшие останки.
И застываю в ужасе —
как жук в огранке
янтарной патоки,
увековечившей его.
Да подавитесь тем, что ничего
не стоит, — выбором.
Я избрала такую долю,
где нету слов «доколе» или «коли».
Меж тем, что «есть»,
и тем, что «быть должно», —
из жалких вздохов тянется звено.
Давитесь выбором.
Мне дайте пустоту.
Благая ложь
в мои не лезет уши.
Устала я.
Устала от дерьма.
А Время, —
Оно того, что есть, не лучше.
Не тормошит, не тормозит.
Не знает времени.
Стоит.
Застынь и ты.
Застынь, поверь.
Поскольку пустота — проверь —
умеет навевать воспоминанья
без их источников, без их страданья.
Они прямы и однозначны.
Точны, как речь на слэнге.
Кто эта лошадь с крыльями?
Кто эта ведьма с веником?
Куда? Откуда? Кто?
Я их не узнаю.
Мои ли у меня глаза?
И в том ли я краю?
Послушай.
Мне отвратен тот порядок,
что Ты навёл в мозгах моих.
Не меньше был бы, правда, гадок
Твой хлам сказаний колдовских.
Я лично буду жить никак, —
то бишь, как выпадет пятак.
Ни услаждать Тебя гадливо
и ни расчёсывать хвосты
Тебе не буду. Жить — как Ты
я буду: беспокойно, лживо.
Ты удивляешься,
что в тридцать с лишним лет
я, будто бы босяк спесивый,
по-прежнему не чту Тебя! Что, нет,
не научилась Твоему
внимать я блеянью. Ему
поддакивать безропотно, трусливо.
Твоею ложью усладиться
и, как заказывал, плодиться.
По Твоему пора по лбу
прямой наводкой бы пальбу
открыть, но нет Тебя на небе.
Хоть райские проверь кусты,
Тебя там нет. Наверно, Ты
убёг куда-то по иной потребе.
Убёг, скорей, совсем, — зачем
трудиться дальше, если всем
Ты доказал, что преуспел в погромах? —
и горсть оставил за Собой
рабов, поставленных на Твой
престол тюремщика и костолома.
Я не дивлюсь, что ты молчишь.
И нету выбора, а лишь
как с крыш бросаются, —
так броситься из жизни
в пучину из сплошных утрат.
Но выстоять ударов град,
когда Твой мир несётся в ад,
мне наказаньем кажется излишним…
Так вот, послушай наконец.
Никто не верит, что Малец
родился в яслях, а свидетели — волхвы.
В перстнях — лазурь-и-бирюза —
широких, как шахинь глаза.
Хоть я Тебя благодарю, увы,
за то, что ложью Ты Твоей
развеял скуку наших дней,
развеял Ты её, опять увы, напрасно.
Давайте, значит, воздадим
хвалу тому, что быть иным,
чем болетворным и пустым
ничто не может.
Крушению любой надежды.
И облачению в одежды,
в которых всетерпенье дух не гложет.
В которых ты — ни глух, ни нем —
лицо в стене хоронишь с тем,
чтоб нашептать себе же реквием.
Чтоб сердце билось в немоте.
Пока не выбьется за те
пределы, где живёт Ничто.
А кроме — ничего.
Совсем.
Пер. Нодар Джин