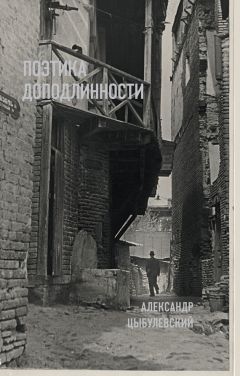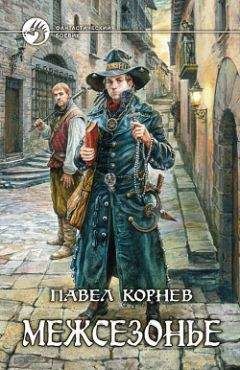Пластмасса – вот метина дешевеющего времени. Она появляется – как только возникает нужда друг другу противопоставить ушедшее прошлое и идущее настоящее. Антипод пластмассы и секундант настоящего – керосин[81].
Вот они у барьера:
На Гончарной или на Кувшинной
Смотрит оком мутного стекла
комната над лавкой керосинной,
а напротив винная была.
Как на ум здесь не приходит повесть,
пусть себе уходит в полусон.
Вот те на! Гляди, какая новость:
пронесли пластмассовый бидон.
Вот, кстати, прозаический подстрочник этого стиха:
Почему он не подождал трамвая, а пошел по мосту в такой дождь? Хотел увидеть, как вода падает в воду – дождь в Куру? По мосту прошли разносчик керосина (откуда – куда!) – привидения – с двумя бидонами, профессиональными, настоящими – с неразборчиво выведенной ценой, за ним старуха с рвущимся из рук зонтиком и злобной гримасой самурая… Эти проулки обманчиво тихие на самом деле сравнимы с гигантскою аэродинамической трубою, с таким ревом сыпались по ним поколения друг за другом. И очутился на улице, бывшей Кувшинной или Гончарной. С бьющимся сердцем стоял, смотрел, не отрываясь, на комнату над лавкой керосинной. Он на нее, она на него – подслеповатым окном. Ступеньки вниз. Серьезные основания игры слов. Вход – зевок – зев – Зевс. Бездна. Электрическая лампа в глубине мерцает, как звезда. Как странны эти новые бидоны («Прогулка»).
Приведем с ходу и еще один стих, вышедший из этого же подстрочника:
ЧУГУРЕТИ[82]
Какая тишь! А между тем гурьбой
тут поколенья сыпались, как гунны,
аэродинамической трубой –
в ничто, в какой-то рынок бестархунный[83].
А тявкают потомки тех же псов,
недолговечней детского румянца.
И нет у времени верней часов
геологических – простого сланца.
Но от воспоминаний исторических, даже геологических, вернемся к воспоминаниям детства, и тотчас же снова выплывают бидон и керосин:
…Уединенье в сто охватов
и треск трескучих хворостин.
Откуда запах горьковатый?
Так мог бы пахнуть керосин.
Ужель Команда Огневая,
Брэдбериевщины фантом?!
Нет, это маме наливает
Наш керосинщик в Наш бидон.
Как он забрел в эпоху газа,
усовершенствованных плит?..
Тоска по преходящему, по уже отошедшему – характернейшая черта Цыбулевского. Не только в тбилисских пенатах, но и в командировочной Москве – ему милей «минувших дней очарованье»:
…В буфет модерный, как салоны «ТУ»,
увязла одинокая свобода
и не вписалась в обстановку ту.
Извозчика б тринадцатого года,
Казанского вокзала пестроту!
Тоску вызывает не только то, что лелеемые его памятью вещи и жизненные атрибуты уходят, но и то, что они воистину забываются, воочию становятся ненужными. Он как бы разрабатывает тютчевскую минорную тему – «…Но для души еще страшнее / Смотреть, как выпирают в ней все лучшие воспоминанья».
В этой связи интересно сравнить одно из стихотворений А. Цыбулевского с близким ему по настроению стихотворением А. Тарковского «Вещи»:
При полной идентичности изначального импульса («Все меньше остается тех вещей…») отчетливо видна разница в подходе к теме и в решении стиха. Пятнадцати строкам, отведенным Тарковским под перечисление забытых веком вещей, Цыбулевский противопоставляет всего три строчки, в которых схвачены родовые черты его собственного перечислительного ряда: «с печатью рока, шепотком причуды…». Затем у обоих идет двух-трехстрочный пласт констатации небытия всего названного и опущенного, после чего мысли поэтов резко расходятся.
Верный своему пассеизму, Цыбулевский боится и чурается будущего – оно ему неизвестно, оно неподвластно доподлинности! Как бы у своей финишной черты[84], часто и неровно дыша, он пребывает в нерешительности, в растерянности, не зная, кому передать, кто подхватит его эстафетную палочку: «Куда девать, кому отдать мне гребень – ах этот гребень, гребень роговой!» Мысль Тарковского, тоскующего, наоборот, только по грядущему, набирает высоту, пока не достигнет искомой сферы, где она окончательно раскрепощается: «Я посягаю на игрушки внука, хлеб правнука, праправнукову славу»!..
Вообще у Цыбулевского довольно настороженное отношение к грядущему (быть может, потому, что оно смертоносно?): что́-то там – потом! после!!! – будет?
Но я не вижу, чье лицо
к зачитанному мной склонится тому…
Мой кабинет, как мамино кольцо,
достанется кому-нибудь другому.
К тому же будущее вовсе не гарантирует преемственности, то есть покушается на смысл любезного Цыбулевскому настоящего. И поэтому не случайно, что будущее время как грамматический феномен чрезвычайно редко встречается на страницах книжки (и то, как правило, не в виде обособленной плоскости, в которой происходят – будут происходить – те или иные события, а в замесе с другими временами). Единственное, что Цыбулевский, вслед за Баратынским, разрешает себе в грядущем, – это лучик надежды:
…За ставней свет карающим мечом.
Окинь, покинь, как при аресте, вещи.
Какой ни есть – в них все же след мой вещий.
Вернусь и я с каким-нибудь лучом.
Цыбулевский крепко связан с реалиями настоящего, поэтому вероятности будущего для него – вотчина фантастики. И когда в прозе «Шарк-шарк» ему потребуется ирреальное, фантастическое начало, он обратится за ним в будущее. «Сюжет» великолепной фантасмагории, разыгранной Цыбулевским с блеском, достойным булгаковского пера, таков: некий человек в халате («бородка клинышком – никаких особых примет», а позднее выяснится, что «при всей своей реальности, он, как бы это сказать, – в основном – проецируется»), представитель дислоцированной в «так называемом будущем» конторы по железнодорожным путешествиям, заключил с автором устное трудовое соглашение. Получив пост заведующего костюмерной или, на выбор, уполномоченного в секции усложнения путешествий – «всегда ведь найдутся охотники проехать ночью третьим классом по тому или иному отрезку Среднеазиатской железной дороги», – автор отправляется в общем вагоне из Душанбе в Красноводск. Его работодатель пояснил, что нужно его фирме:
…Не пренебрегайте мелочами, такими, например, как будет выглядеть из окна сценка: мальчик помогает старику взгромоздиться на осла. Впрочем, нас интересует скорее поэтическое воспроизведение увиденного – не столько, так сказать, подлинность – сколько доподлинность, что ли, – то есть то, что придумать нельзя, – ну вы в этом прекрасно сами ориентируетесь – вы поэт, вам и карты в руки. // – Какой я поэт! // – Не скажите, могу открыть вам по секрету, что после неизбежной, как вы понимаете, смерти – все мы смертны – стихи ваши получили признание и еще долго имели определенное хождение у любителей, не помню уже точно, что в них такое находили: кажется, крутизну и соответствие высоты голоса с чем-то – что редко. Да и проза ваша нравилась – этакие руины, развалины несостоявшихся стихотворений.
За этим ироническим комизмом кроется грустная истина: вложив свои заветные мысли в ирреальные, проецируемые уста, Цыбулевский высказался по поводу извечной горечи социального положения поэта.
А уж заодно сделал среднесрочный, но постепенно сбывающийся прогноз и о собственной поэтической судьбе…
Цитата есть цикада.
Неумолкаемость ей свойственна…
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.
Особой разновидностью восприятия поэтом времени и его структуры является так называемая «книжная культура»:
Наша память, наш опыт с его провалами, тропы и метафоры наших чувственных ассоциаций достаются ей (книге. – П.Н.) в обладание бесконтрольное и хищное[85].
И сколь бы застенчива и ненадежна ни была эрудиция, она всегда держит при себе вереницу ответных образов – любимых и невыветривающихся. Поэтому каждое «книжное» упоминание и избирательно, и не случайно. По-новому освещая текст, смещая его к упомянутому, оно не просто выявляет начитанность или наслышанность автора, не только указывает на его симпатии или антипатии, но и формирует глубочайший ассоциативный подтекст, разнообразно сцепленный с текстом и неотступно, как за буксиром баржа, следующий за ним.
В исповедуемой Цыбулевским поэтике доподлинности культура – сама по себе (как нечто несиюминутное) – вторична, что, однако, не означает второстепенности. Не будучи отчетливо выраженным предметом запечатления, она является первостатейным средством последнего. Культура обволакивает и процеживает первичный план, пласт непосредственного запечатления, и делает его, как ни странно, более проясненным, хотя временами и причудливым.