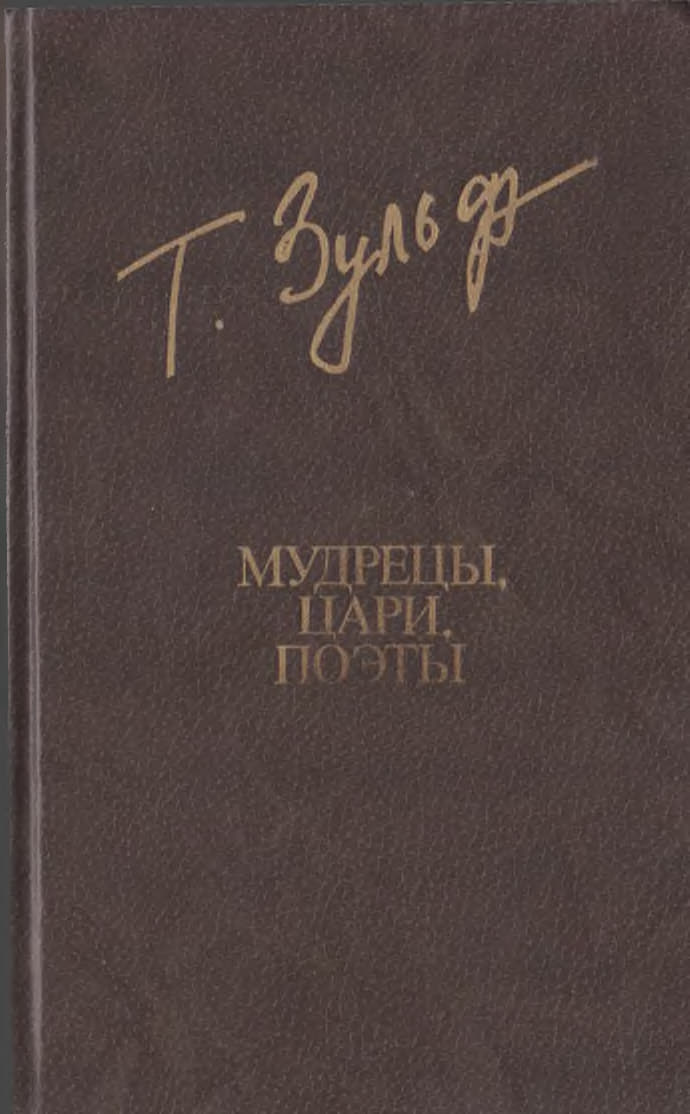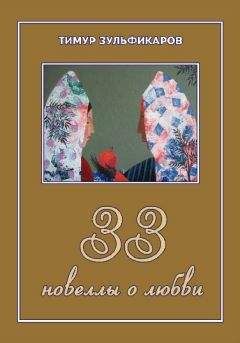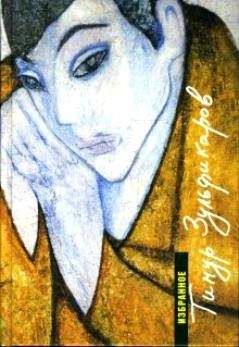далеких с его перстов спадал…
Но молодые живые ноги мои продолжали скользить, плясать в святой, взывающей, тягучей, текучей, покорной глине, мавлоно…
Потом мы с Турсунджаном сложили из теплых, тяжелых, непросохших кирпичей высокий долгий дувал между нами и тобой, Кумри!.. Свежий саманный дувал курился и дымился на весеннем, благодатном, щедром азиатском солнце!.. Ветерок прозрачный мятный веял, слетал с цветущих деревьев!.. Курился дувал, курился, курился… Обсыхал, длился…
И вот уже ты стоишь, Кумри, ты улыбаешься за высоким долгим саманным дувалом! Еще видна над дувалом твоя змеиная быстрая головка в красном платке, повязанном до самых длинных насурьмленных бровей' Головка качается, танцует за дувалом! Гиссарские витые серебряные серьги с тонким шелестом вспыхивают а твоих ушках! Глядят два ночных, ивовых, тихих хауза-глаза!.. Куда они глядят?.. Куда течет река Коко?.. Куда глядят глаза Кумри?..
Они глядят на Турсунджана. На его бритую, нагую голову. Круглую, как термезский арбуз…
…Но ведь это я выловил утопающую кизинку из глиняной реки… Я, Мушфики… Почему же ее глаза с дувала глядят на Турсунджана?..
Тогда Мушфики поднимает с земли большой сырой кирпич и ставит его на дувал прямо перед лицом девушки. Теперь Кумри не видно. Не видно ее разливчатых вспыхивающих глаз, глядящих на Турсуна… Но тут головка девушки, но смеющаяся, хмельная, дурная, маковая головка кизинки вновь появляется над дувалом уже в другом месте. Глядят глаза мимо Мушфики…
Тогда Мушфики терпеливо закрывает ее новым кирпичом, потом маковая головка вспыхивает в другом месте, и вновь Мушфики ставит перед ней новый кирпич. И так долго. Мушфики тяжело дышит. Устал. Кирпичи тяжелые, сырые. Но дувал высок. Уже!..
Теперь нигде не восстанет девичья верткая маковая головка в красном платке, нигде не прошелестят, не сверкнут узорные гиссарские серебряные серьги…
Дувал высок. Уже…
…Чего ты стоишь, Турсунджан? Чего ты не помогаешь мне таскать тяжкие кирпичи? Иль тебе не нравится этот дувал? Эта священная извечная граница между мужчиной и женщиной? Иль ты готов ее нарушить, мой друг, мой друже?..
— Нет, Мушфики-ака. Никогда. Вы хорошо сделали, что положили эти кирпичи. Особенно последние, высокие… Теперь ее не будет видно… Голова ее не будет плясать над дувалом, как на кукольных базарных представленьях, которые так любил мой отец…
— Давай дадим клятву на Коране, что всегда и везде будем соблюдать и беречь этот дувал. Дувал…
И тут Мушфики вспомнил яблоневый дувал татарки Амадери и поник…
…На глиняной суфе перед кибиткой лежала желтая, как осенний лист, старинная священная Книга. Вешний урюковый цветущий ветерок шевелил, перебирал ее потрескавшиеся, измятые тысячами почтительных осторожных перстов ветхие страницы. Эта книга была единственным наследством, которое оставил своему сыну Турсун-джану его погибший отец, знаменитый придворный масхарабоз-шут Ахмад-девона, Ахмад блаженный… Но ветхая священная Книга лежала на суфе, и вешний, урюковый, цветущий ветерок, набегая из бесконечных розовых садов, шевелил, перебирал ее потрескавшиеся, измятые, поблекшие страницы. Веял ветерок. Шелестели страницы. Дремливо струилось вешнее чептуринское небо… Курился сырой саманный дувал!..
— Турсунджан! Давай дадим клятву на Коране, что мы всегда будем соблюдать и беречь этот дувал!..
Мушфики берет в руки шелестящую, трепещущую Книгу и наугад открывает ее на суре «Скакуны», и читает замирающим голосом…
…Клянусь скакунами, задыхающимися на бегу,
Скакунами, у которых искры брызжут из-под копыт,
Нападающими по утрам па врагов,
Поднимающими пыль под ногами…
Клянусь, что я всегда буду соблюдать и беречь этот дувал между нами и Кумри!..
И Турсунджан вторит ему: клянусь скакунами, задыхающимися на бегу… клянусь, что всегда буду соблюдать и беречь этот дувал между нами и Кумри!..
Клянусь скакунами, задыхающимися на бегу… поднимающими пыль под ногами…
И тут Мушфики закрывает глаза и слышит, как ветерок хладит, течет по его щекам, усам, бородке.
И тут он видит, видит тех, тех ахалтекинских, вспыльчивых, переливающихся нетерпеливыми, тугими, атласными кожами жеребцов! Тех шелковых коней!
Тех, уносящих в алую, заревую, беспробудную пыль, тех, уносящихся и уносящих, уносящих навек, навсегда татарку Амадерю!
Тех, поднимающих алую пыль!..
Клянусь, что та пыль до сих пор еще не осела в душе моей, до сих пор она вздымается и носится, до сих пор она жжет мне глаза, та алая пыль!..
Клянусь алыми конями!..
Я не нарушу дувал!
Я не хочу, чтоб они уносились и уносили возлюбленную мою, первую мою, не хочу, не хочу, не хочу, чтоб уносились эти алые, алые, алые кони!..
Клянусь!..
Курился саманный дувал. Турсунджан опустил голову. Круглую, как термезский арбуз.
Веял вешний, сладкий, пряный ветер с цветущих бесконечных урюков.
Роились мириады пчел. Сады жужжали, объятые пчелами.
Сады жужжали, объятые избыточными, тучными, золотыми, медовыми пчелами…
А курился саманный высокий дувал.
А за ним не было видно маковой головки в красном платке.
А Кумри стояла, прижавшись к свежему дувалу.
А у Турсунджана голова круглая, как термезский арбуз…
И она еще кружится!.. Отчего?..
Клянусь алыми конями! Я не нарушу дувал!
Клянусь скакунами, задыхающимися на бегу!..
…В белопенных садах, в белопенных садах,
ой, заблудимся, затеряемся!..
Из народной поэзии
Кто тайком приходит в цветущие урюковые сады и щедро оббивает розовые цветы? Еще не пришло время паденья розовых летучих лепестков. Кто-то сбивает их. Под многими деревьями невинно лежат они. Кто сбивает их? Ночью, под яркой, теплой, разливчатой луной — кто оббивает цветущие урюки? Иль ранним росным утром, когда крепко спят под рваными курпачами-одеяламн садовые сторожа — Турсунджан, Мушфики и Кумри?.. Кто оббивает невинные, беззащитные розовые деревья?.. Кто проливает розовый пчелиный довременный цвет урю-ков?..
…Раннее утро. Свежо и розово в цветущих садах. Мушфики стоит под росными, дымными урюками. Зябко ему от утренней свежести. Но это утро в дымных розовых цветущих, разъятых деревьях! Это юное утро в пенных вешних садах!..
Мушфики босой бежит по садовым, запущенным, густым травам, разбивая ногами алмазную росу, скользя по хрупкому ее скоротечному живому серебру!..
Бежит босой Мушфики под утренними, розовыми, пчелиными урюками, бежит, скользит по серебряной траве, падает в траву, смеется, закрывает глаза, лежит в траве и гребет, гребет руками — и ему кажется, что он плывет, плывет в травяной хрустальной мягкой реке!.. Он плывет по траве!.. Но вся трава засыпана обильными розовыми цветами… Лепестками розовыми, как сосцы далекой уже, ушедшей коровы Уляши — ее пришлось зарезать на поминки чабана Саида… Мушфики плывет в розовой реке палых мягких цветов-лепестков! Мягкие лепестки… Розовые, как сосцы Уляши…